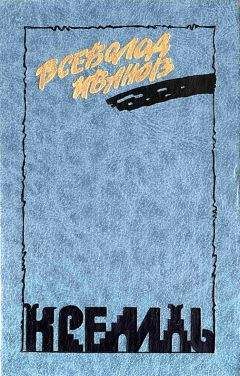— Не сказала, — подтвердил со вздохом отец Евангел.
— Раз ты на подвиг приехал, то я тебе о подвиге и рассказываю, сынок.
— Не на подвиг, отец, на размышление.
— На размышление? — переспросил отец Евангел, поправляя бисерный свой кушак. — Над чем здесь размышлять? Нас и без того взреволючили.
— Помолчи, отец Евангел, — дай рассказать. Вышла она, у ней из руки кровь брызжет. Домника Григорьевна с полотенцем бежит, а Агафка мне такие слова: «Зачем мне мыться, коли мне нечего одеть». Вот ты смеешься, Гурий, а то чудно, что девка была в полном забросе, одежонка на нее шла, — нищий бы постыдился одеть. Заговорила девка!.. Вставала она, бывало, с петухами, и ложилась она с курами, а тут… заиграло во мне этакое. «Отлично, говорю, — думаешь, я скуп и жалел на тебя? Так вот — на, выбирай!» Распахнул я кованный жестью, дедов еще, сундук, вывалил из него все платья, так что Домника Григорьевна, строптивая твоя мамаша, охнула и присела. Стою, и любо мне, понимаешь, смотреть, что дальше с девкой произойдет. Так-с… А она, не мало думая, подходит к сундуку, выбирает малиновое бархатное платье, — сшила его Домника Григорьевна лет пятнадцать или двадцать назад и надевывала пять раз к причастью, — выбрала еще зеленую кашемировую шаль, встряхнула, прикинула на руку, а рука, заметь, брызжет кровью, сказала: «Спасибо, папаша, Иван Петрович» — и поплыла в баню. Еле успели мы очнуться от такой смелости, вкатывает Хлобыстай. Портной был при тебе, помнишь? Сейчас он заведует типографией; храмы посещает, а сам боком насчет бога выражается. И с придурью вообще. Ротище у него прокуренный, табаком за версту, руки над платьями распростер: «Ах, говорит, готовитесь к встрече сына, платья выбираете».
Кто знает, отнял бы я у Агафьи платье или нет, но только она, надо думать, об отнятии рассчитывая, одним словом, подождала, когда Хлобыстай разговорился, открывает дверь, рука завязана, а сама… вот уж не думал, что привел бог такую красавицу воспитать.
— Удивительный вид, точно, — вздохнул Евангел, — и косы, как рожь, и походка тоже. Слава вам, Иван Петрович.
— Веселый это случай, а не диво, отец.
— Ты еще дослушай, диво-то в том, как и о чем она заговорила и что нам сказала, в уме и характере диво, а не в красоте, Гурий… А теперь еще по Кремлю слухи, скажут, сберег невесту сыну-епископу.
— Не рукоположен, — тихо повторил Гурий. — И есть у меня одна невеста неневестная: церковь.
Азиатец в ситцевом халате, едва И. П. Лопта влез на облучок, подвел к ним своего коня и быстро проговорил:
— Ты тоже имеешь коня, ты знаешь места, где здесь подле Мануфактур живет мой сын Мустафа Буаразов и где здесь Дом узбека?
И. П. Лопта молчал. Слепой старик весело крикнул ему с седла:
— Я слышу дым от дома моего внука, поворачивай вправо.
Азиатец в ситцевом халате сказал, поднимая ножны своей шашки:
— Ты плохо слышишь дым своего внука, отец, — вправо течет Волга. Я остановлюсь здесь, потому что в ней я могу поить своего коня. Ты, сидящий на облучке, у которого борода похожа на серп, может, тебе придет фантазия не только молчать, но и смеяться над моим отцом? Его зовут Мехамед-Айзор Буаразов, его имя знает вся Средняя Азия и некоторые окраины Персии. Я его сын Измаил, вот какие мои перспективы, и мы идем в гости к Мустафе, сыну моему, из Дома узбека, который будет большим инженером и спецом по хлопководству.
— Ожидаю на той неделе Луку Селестенникова, он тоже был хлопковод, а теперь мне срубы поставляет на плотах. Великим знатоком оказался. Может, и выйдет толк из твоего Мустафы, а из тебя, гражданин, как ты с первым попавшимся изъясняешься, — не вижу…
— Я говорю не с каждым попавшимся, а с врагами. Шашкой этой я ударил и бил много врагов, и каждому из них перед смертью я говорил обширную речь. Басмачи и офицеры захватили моего отца, потому что он был комиссаром и революционером. Они поднесли к его глазам раскаленный в огне клинок и нагло сказали: «Поскольку ты хотел мешаться у нас под ногами, постольку ступай в тьму». И они держали клинок у его глаз, пока они не лопнули… И вот я ловлю мучителей и офицеров, и тоже отправляю их в тьму, всех, кто не хочет мне указать дорогу. Они разбежались от сверкания моего клинка по всей России. И я шел от Туркестана, ведя под уздцы моего коня, на котором сидит мой отец… Он был храбр…
— Кто на войне не был храбр? — сказал И. П. Лопта, подбирая вожжи.
— Посмотри моего коня! — вскричал Измаил гордо.
И. П. Лопта хлестнул вожжами, тарантас ринулся, и И. П. Лопта обернулся к азиатцу:
— На таком коне золоторотцу хорошую карьеру сделать можно.
Сезонники захохотали. Измаил опять поднял из ножен саблю. Старец потрогал его за рукав. Из переулка к ним бежал волоокий узбек в пиджаке, в кепи и с часами на кисти руки.
— Я еще с этого коня произнесу над тобой смертную речь! Я вижу слабость твоих рук! Я по рукам угадываю!.. Граждане, веселый Магнат-Хай, программный дракон, ушел под землю в пьяные пещеры, а людям дал 777 богов, и люди медленно раскидали его богов. И сказано в его программах, что придет на землю человек, который откинет последнего из семисот семидесяти семи богов. Этот человек, граждане, совершит сто раз по десять смертных грехов, его, помимо всего, вы сможете узнать по золотому волосу на виске. Он совершит убийства, развраты, кражи, ложь, ссоры, обиды друзьям, он будет думать скверные мысли о своем народе, он привьет людям усталую зависть и потерю желаний. Я уже вижу его, он движется по земле, он ослепил моего отца, и я произнесу перед его смертью и над ним величайшую из моих речей. «Слушай, — скажу я ему, — как ветер разносит сухой бараний помет, так я разнес мучителей моего отца»…
Он смотрел вслед убегающему тарантасу и вдруг обернулся к сезонникам и к рыжему с несуществующей котомкой. Он положил руку к рыжему на плечо и быстро спросил: «Как твоя фамилия?» Рыжий поспешно ответил: «Вавилов», и, видимо, стесняясь того, что испугался окрика и сказал свою фамилию, отвел глаза и посмотрел вдоль забора. Вавилов, приподняв рыжие плечи, вгляделся еще раз и вдруг, скинув руку Измаила, быстро побежал к новому и длинному забору, окружавшему стадион. Он слышал, как Измаил кричал ему вслед: «Покажи твой висок», как хохотали сезонники и как подошедший узбек Мустафа увещевал отца и хохочущего на коне деда Мехамеда-Айзора.
II
Вавилов быстро устал от бега. Ему показалось, что у канавы, подле поворота забора, против высокого темного здания (это был Воспитательный дом, в котором он рос) — сидят четверо и у одного из них в руках мелькнула вавиловская желтая котомка. Но чем ближе он подходил к четверым, тем меньше в нем было уверенности, что котомка эта его. Он зашагал тихо. Воспитательный дом! Вавилов горько запомнил коридоры, запах квашеной капусты и гнилых дров. Многие из его друзей шли из этого дома в Приют, устроенный обрусевшими немцами, владельцами Мануфактур, господами Тарре. Из приюта можно было попасть в ремесленную школу, а оттуда в тюрьму и на каторгу. Его охватил трепет, знакомый ему еще в детстве! У него хорошая память на прошлое. Он вспомнил, как дразнили их, учеников ремесленной школы, — «козлами» за жалкие синенькие шинели с оловянными пуговицами и желтенькими кантиками. Вспомнил он, как он рассчитывал на изменение, когда уехал на войну, а там дали ему разбитый мотоциклет, пакеты и ежедневную грязь дорог и ямы от разорванных снарядов. Он посмотрел на Кремль. В детстве и поп и учителя рассказывали им много священных преданий о Кремле, и над койками у ребятишек висели литографированные картинки, и в пост, под унылый вой тридцати кремлевских церквей, их вели на исповедь. Он долго помнил покрытый легким инеем холодный пол притвора… Из темного здания вышли несколько солдат, быстро размахивающих свертками, — должно быть, пошли в баню. Значит, здесь теперь казармы. Ему стало грустно, что он не может испытать такого же желания свободы, которое чувствуют сейчас солдаты. Ноги у них, — и отсюда заметно, — радостно сплетаются. Да, он воевал, но, талантами не обладая, застрял мотоциклистом, а в революцию все мучали болезни. Он поступил на рабфак, но и тут не удалось: захворала жена, надо было ухаживать за ребенком, он вернулся на производство. Жена умерла, за ней вскоре ребенок, тусклое раздражение всегда мучило Вавилова. Подоспел какой-то разговор, сокращение, — Вавилова рассчитали. Он признал это правильным: болезненный, вялый, он любил водку, совершал прогулы, тосковал по жене, вслух, нелепо. После расчета он вспомнил Большие Волжские Мануфактуры: где-то прочел, что там набирают третью смену, он и поехал, впрочем, мало надеясь на возможность заработка. Когда он подъезжал к Мануфактурам, ему стало скучно, он, как и всегда в таких случаях, — выпил. Проснулся, а его желтой солдатской котомки и тужурки с деньгами не было, соседи же высказали радость, что хоть хорошо документы у него не утащили. Но главное, вместе с деньгами украли и билет. Он подумал: протокол, потащат его в милицию, — и, не доезжая одной станции до города Ужги, он слез. Ему доставило чувство облегчения сознание, что он идет и как будто делает необходимое дело. Он срубил посох, снял фуражку, вспомнил, что давно не брил голову: он не любил рыжих своих волос. Но как только он подумал, что можно захворать, простудиться и вообще чем-то страшно навредить себе, он сразу почувствовал себя утомленным и голодным. Ему подумалось, что вот он, когда пошел, то думал идти далеко, но куда теперь уйдет, да и как он будет разговаривать с крестьянами, к которым с войны он питал злобу, несмотря на все прочтенные брошюры о необходимости мира с середняком. Мужики с обычной ненавистью, с которой они относятся к бродягам, начнут осматривать его и будут его бранить, а он с обычной своей трусостью ответит выдумкой какой-то сложной мести, которую нельзя никогда осуществить. Он прошел через станцию, дабы самого себя утешить, что приехал с поездом, и ему не хотелось гнать себя к Мануфактурам, да и машин он не любил. Он вспомнил многое и позорное из своей жизни, когда происходили случаи трусости перед машинами… даже жалкий мотоциклет на войне… Он стоял у канавы. Четыре человека сидели в кружок. Он узнал свою желтую котомку и свое полотенце с синими краями и с розовой буквой, вышитой покойной женой. Прошло много лет с последней встречи, — но недаром была у него отличная память на прошлое, — он узнал их, четырех!..