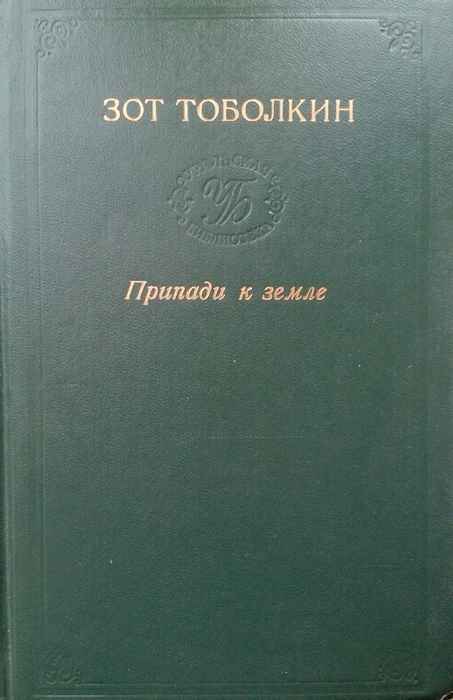языцех. Но он не уступал, не сдавался. В двадцать первом кулаки затянули на его шее петлю, другой конец, привязав к осёдланному жеребцу. Было страшно, но Камчук не кричал, не взывал к чёрной вражьей совести, кровавыми слезами плача в душе по уходящей молодой жизни. Солнце в морозном кольце ещё никогда не казалось таким привлекательным. И вдруг всё опрокинулось, завертелось, скрылось в цветном тумане: один из кулаков вскочил в седло и, пришпорив коня, на полном скаку поволок пленника по улице. Камчук не помнит, как между верёвкой и шеей оказалась правая рука...
- Стой! Стой, варнак! – спугнул его мысли чей-то громкий окрик, когда Воронко грохотал по мостику над яром. Кричали из конюховки.
- Спала бы ты, тётка Афанасея! – проворчал Ефим, с трудом удерживая жеребца. – Базлаешь среди ночи!
- Ты где вырос? – вырывая у него вожжи, низким грудным голосом заговорила женщина.
- Что случилось? – недовольно спросил Камчук, узнав в подошедшей конюха Афанасею Гилёву.
- Коня некованым запрягли, вот что! Ему это простительно, в деревне без году неделя, а тебе-то стыдно! – она ткнула Ефима в спину, приказав: «Заворачивай на конный!».
- Мы торопимся! – не очень твёрдо проговорил Камчук. Он побаивался этой мужиковатой дерзкой бабы.
- Перепрягу и поезжайте! Скатертью дорога! – ведя жеребца под уздцы, невозмутимо отвечала Афанасея. – Тебе кто дозволил брать Воронка?
- Кто, как не Пермин!
- Он токо это и умеет. Фатеев живо научил бы вас, как с животной обращаться. – Колхознички! Своё берегчи умели!.. У-у, глаза бы на вас не глядели!
- Да мне-то откуда знать, что он не кован? – оправдывался Ефим, заводя в оглобли другую лошадь.
- Про своё всё знаешь. Этот чужой.
Пока переругивались, Камчук вылез из кошёвки и прошёлся по знакомой ограде. Тускло отсвечивали окна на втором этаже. Внизу, в конюховке, двусмысленно мигал фонарь, словно намекал на что. Огонь этот был неприятен Камчуку своей развязностью.
И дом, и двор, и огонь, лижущий фонарное стекло, напоминали о Фатееве, бывшем хозяине этой усадьбы, и оттого было не по себе. Камчук не часто вспоминал Фатеева, но и совсем выкинуть его из памяти не мог. Слишком многое было связано с этим человеком. Даже воскресение из мёртвых.
С небольшой группой красноармейцев Фатеев отбил полуживого Камчука у кулаков и доставил его к своему знакомцу Лавру Печорину. В экстренных случаях ветеринар нередко пользовал людей, и удачно. Кости, аккуратно вправленные старым костоправом, срослись прочно. Остался лишь шрам. И Камчуку было лестно, когда на губернской конференции делегаты указывали на этот шрам и перешёптывались. К тому времени о Камчуке уже писали газеты.
С Фатеевым встретились в Заярье. По всем статьям он подлежал раскулачиванию. Увидав в списке знакомую фамилию, Камчук удивился:
- А этот как сюда попал?
- Самый злостный, – угрюмо выдохнул Сидор Пермин, руководивший группой активистов.
- Пришлите его ко мне! – велел Камчук.
Но Фатеев не пришёл. А утром его увезли в полузабытьи. Проезжая мимо Камчука, он поднял с коленей жены в скатавшихся волосах голову и, поведя побелевшими от боли глазами, глухо хрипнул:
- Ты? Выходит, зря я тогда верёвку-то... Зря... Вернусь! Не я буду.
Камчук, не любивший оставлять за другими последнее слово, смолчал и, зайдя в Совет, долго и незряче глядел на разрисованную стену напротив.
Накануне вечером он допоздна ждал, что Фатеев придёт, напомнит о прошлом. И Камчук попросит оставить его в колхозе под свою ответственность. Если будут противиться – настоит, переборет.
Когда за дверью кто-то кашлянул, потом нерешительно скребнул ногтём, Камчук встрепенулся, радуясь этому позднему появлению.
- Это я, Алёха, – гундосо произнёс чей-то голос, и в дверь бочком протиснулся хитроглазый мужик с перебитым носом. – Дугин я, значит.
- Из этих? – Камчук кивнул на список, лежавший на столе.
- Опять же как на ето дело поглядеть, Алёха...
- Я не Алёха, – нахмурился Камчук.
- Извиняюсь, гражданин-товарищ. Присказка у меня такая. Дак я и говорю, как ведь на ето дело посмотришь. С виду-то я кулак, не спорю. А ты мне в нутро заглядывал? То-то. Может, я самого Ситьки Пермина политичней. Тогда за какие такие грехи меня на выселки- то? Ты сперва тут спытай. Эдак вот и выйдет по правде. Я на всякий случай гумагу заготовил, Алёха. Самолично подаю в голхоз.
- Колхоз, гражданин, – поправил Камчук, остро вглядываясь в гундосого.
- Нонешние слова, Алёха, шибко трудные. Ежели примете в колхоз, может, и образуюсь, хоть и поздно в мои года переучиваться. Нас с малолетства чему учили? Хлебопашеству да молитвам. Тут я без передыху всё скажу, как по книге. С детства дак...
- Значит, в колхоз надумали? – царапая его своим пронзительным взглядом, спросил Камчук.
- Туда, – вздохнул Дугин. – В самое это... В гумаге чисто всё прописано.
- Я передам ваше заявление общему собранию. Если сочтут нужным – возражать не стану.
- Как, поди, не сочтут! – чуть заметно ухмыльнулся Дугин в огнистую бороду. – Всю живность обчеству отдаю... от сердца отрываю, – ухмылку сдуло, голос скрипнул неподдельной жалью...
- Айда! – позвал Ефим.
Камчук с поспешной готовностью перекинул ногу через бортик кошёвки и, кое-как усевшись, прикрыл глаза.
- Коня не запарь! – строго наказывала Афанасея. – Дорога неблизкая.
«Неблизкая!» – эхом отдалось в Камчуке, и, забивая этим словом все свои мысли, он попытался уснуть.
Любо в дороге, чудно! Если поверх борчатки к тому же ещё тулупище на тебе – едешь как на праздник. Всё вокруг движется. А ты с высоты человечьей взглядом создателя смотришь на земную коловерть. И сладко и счастливо тебе. Бесконечно ехал бы! Конь хорош, кучер недокучлив, молчалив. Лишь предстоящие заботы чуть-чуть напоминают о себе сбоями в сердце. И самая длинная дорога стремительно укорачивается от этого. Хочется остановить время, чтобы ехать ещё день, два, год.
Пусть мчится рысак, разрывая мохнатой грудью морозный воздух! Пусть шмыгают, пересекая тракт, шалопутные зайцы!
Чудно в дороге, чудно!
Спутник задумчив, так и не вымолвил ни слова. Вот-вот уж и Бузинка покажется.