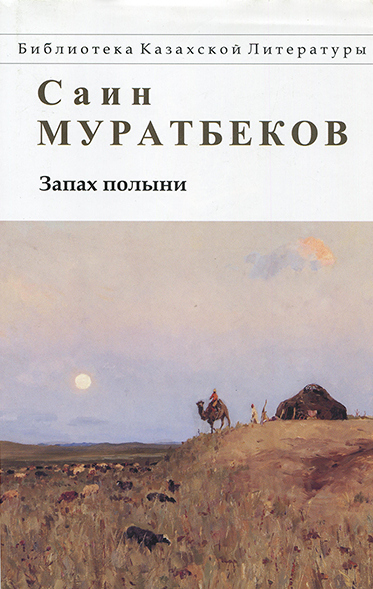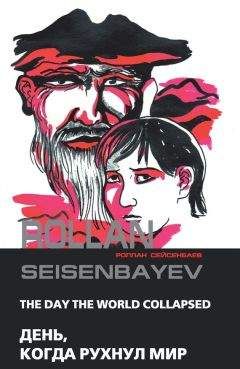горы Ешкиольмес. Его головные избы, пытаясь подобраться повыше к вершине, вползли было на склон и застыли в начале пути. Такое возникает впечатление, когда смотришь на единственную улицу в нашем ауле. Летом она верхним концом упирается в густую гриву полыни, покрывающей гору Ешкиольмес, а зимой мы носимся сверху вниз на санях по утоптанному снегу, и до позднего вечера над улицей звенят веселые детские голоса. Зима у нас замечательная, снег выпадает глубокий, и в то же время у подножья горы солнечно и тепло. Вот уж благодать, когда несешься навстречу упругому воздуху, а снег слепит глаза и поскрипывает под полозьями, и видишь, как торопятся твои приятели, волокут наверх сани, и щеки их пышут жаром…
Катание в этот день ничем не отличалось от прочих. Время уже подходило к вечеру. Солнце разбухло, отяжелело, налилось красным соком, готовое вот-вот сорваться за гору Ешкиольмес; на снег упали его мягкие розовые отсветы. С солнечной вершины Ешкиольмеса привычной дорожкой спускалась в аул скотина, пасущаяся на проталинах. Все дышало миром, будто исчезли беды и слезы. Хотя бы на эти часы. Поэтому вопль отчаяния поднял на ноги всех людей. Ему ответил такой скорбный плач, что у нас, детей, побежали по спинам мурашки. Минутой позже мы поняли, что горе избрало в жертву дом, где жил Аян.
Ну что ж, от этого никуда не денешься — даже несчастье вызывает у детей прилив любопытства. Мы посыпались с саней и побежали поглядеть на чужое горе. Те, кто уже успел все узнать, шептали осведомленно:
— Слыхал, у Аяна-то бабушка умерла.
И передавали новость другим с таким усердием, будто нас ожидало вознаграждение за радость — суюнши, и, конечно, не сводили глаз с Аяна, боясь пропустить самое главное.
Аян стоял у порога, белый как тот самый снег, по которому только что носились наши сани, и моргал часто-часто. Соседские женщины подняли кутерьму: вокруг причитали, кто от души, а кто ради приличия. А он застыл, глух и нем, только хлопал ресницами, да иногда зябко вздрагивал. Мы решились и, подталкивая друг друга, подобрались к Аяну. Он встретил нас молчанием, только недоуменно взглянул на санки, которые мы притащили за собой.
Солнце спряталось за вершиной Ешкиольмеса. Краски померкли, стал сумеречно-серым воздух. А мы впились глазами в Аяна, ожидая, когда же он заплачет. Кто-то даже произнес вслух, точно подсказывая Аяну:
— Эй, почему он не плачет? У него же умерла бабушка!
Но Аян молча перешагнул порог, прошел мимо окон и завернул за угол. Нетрудно догадаться, что мы бросились за ним, заинтересованные его поведением. И тут он обернулся и сказал:
— Ну, что вы, ребята?.. Хотите послушать сказку?
Он произнес это так, будто умерла не его бабушка, а все наши бабушки сообща покинули белый свет, и потому мы нуждаемся в его утешении.
— Так рассказать вам сказку? — спросил он, печально улыбаясь.
— Расскажи! — брякнул Садык.
— Наверное, лучше смешную, — сказал он самому себе и, задумавшись, потерся щекой о ворот шубы с редким мехом.
А мы крепко держались за свои санки и глазели на него, дружно разинув рты.
Аян вздохнул прерывисто и начал, будто забыв о нашем присутствии и обращаясь только к себе:
— Давно это было… Жил один мальчик… сирота…
Он рассказывал долго и задумчиво, потому что сказку придумывал прямо на наших глазах. Сказка получилась грустной. Но сирота оказался не таким уж жалким нытиком, он не сдавался, а раза два мы даже рассмеялись, забыв о том, что сегодня умерла бабушка Аяна.
На другой день ее хоронили. Следуя обычаям, те немногие мужчины, что были освобождены от военной службы, похоронили бабушку и помчались на конях в аул, оставив Аяна у могилы. Он стоял один-одинешенек, низко опустив голову. И на этот раз глаза были сухими, будто он до сих пор так и не научился плакать. Потом он взял ком глины вперемешку со снегом с могильного холма и бросил в сторону, как положено:
— Бабушка, пусть земля тебе станет пухом!
Он подул на закоченевшие пальцы и поплелся по дороге в аул. В этот же день Аян переехал к старику Бапаю, который находился с бабушкой в далеком родстве. Вначале из ворот выехал дед Бапай, на его санях красовались горы пестрых одеял и подушек. За ним появился Аян, ведя светло-серую корову. Корова сделала шаг, другой и уперлась, чуя, что ее уводят навсегда из привычного стойла. Ну, а нам только дай повод для деятельности. Мы побросали сани и всей ватагой наперли на корову сзади.
— Раз, два — взяли! — вопил Есикбай.
Корова таращила большущие глаза, полные коровьей тоски, мотала головой, хвостом, точно ее кусали слепни, сделала вид, будто хочет боднуть Аяна, но затем смирилась, промычала жалобно и побрела следом за Аяном, нюхая полу его шубейки.
— Она у нас умница, все понимает, — сказал Аян, зачем-то стараясь оправдать корову в наших глазах.
Мы проводили его до нового жилья и опять взялись за санки.
Аян вышел к нам только на следующий день. Он остановился в сторонке и горящими глазами смотрел, как мальчишки летают с горки на санях.
— У меня тоже были санки. Там, в городе, — сказал он мне, когда я, лихо развернувшись, затормозил у его ног.
Он сказал это так, будто мы его обвинили в чем-то.
— Аян, знаешь что, возьми мои сани. Спустись разок, — предложил я, не выдержав его взгляда.
— А что, может, и в самом деле попробовать? — сказал он неуверенно, но потом лицо его просветлело. — Ну, кто со мной наперегонки?!
Он втащил, прихрамывая, сани на горку и, плюхнувшись на них животом, мигом скатился вниз.
— Спасибо, — сказал он, вставая. — Ух, как быстро! Не успел и подумать.
— А мои сани еще быстрей, — похвастался Садык. — Аян, попробуй на моих.
— Давай твои сани, — обрадовался Аян.
Потом он уселся на сани Есикбая, и не успел он