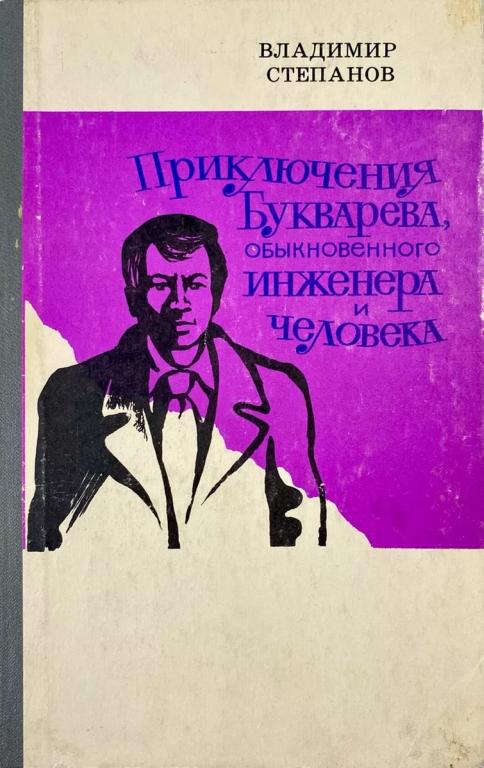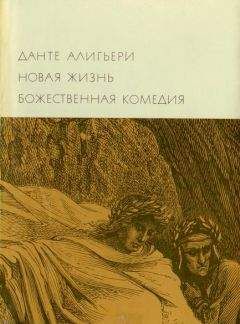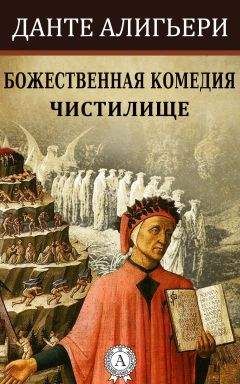каждое утро? С восьми часов? Вносить в его свежую голову предложения? Такие, которые ему заведомо по душе? Не получится это у меня. И ни при каких обстоятельствах не пойду я на такое. Это уж твоя игра, — не скрывая брезгливости высказался Букварев.
— Зачем уж так-то преувеличивать! — слегка обиделся Губин.
— Я еще не такое тебе скажу. Я еще тебе студенческие дела, дипломный проект припомню, подлец! — дрожа от ярости, сквозь зубы процедил Букварев.
— И к этому я готов, старик. И слова, примеры заготовил, — покорно ответил Губин уже без тени обиды. — Ты в возрасте Иисуса Христа. И вот тебя, как и его, продали, Вернее, я тебя продал или купил. И теперь тебя распинают… Но я…
— Путаешься ты: купил… продал… — перебил его Букварев с отвращением. — Сам не знаешь, купил или продал. А это ведь понятия прямо противоположные… Да и Христу было проще: после распятия он воскрес.
— И ты воскреснешь! Да и не распят еще ты! Просто надо все взвесить. Ведь работает же у тебя голова! — горячо подхватил Губин.
— Иисус воскрес да и ушел от таких, как ты с Воробьихинским, — хмуро парировал Букварев.
— Ну, тебе менять место еще рано. Не так уж тебя приперло. Поумерить бы неплохо твое болезненное воображение и самому поутихнуть. Надо о деле думать, а не во мнительность да в амбицию впадать. Ты вот сидишь бирюком, а не знаешь, что весь отдел за тебя переживает. Девчонки кульманов своих не видят, один ты у них перед глазами. Все до единого рады тебе помочь и смыть пятно с отдела. Выдадим вот пару-тройку очередных работ без сучка-задоринки — и все забудется. Выговор перед первым же праздником снимут. И пойдет жизнь своим чередом, — как можно убедительнее втолковывал Губин.
— Одного ты не учел, — не вдруг возразил Букварев. — Не учел, что я-то уж прежним не буду. Обо всем я буду помнить. И начальство, и прихлебатели его ни о чем не забудут. И ты в том числе. Знаю я и то, что наказан справедливо. И раз посаженное пятно дочиста не смывается, все равно следы остаются. Так что ничего своим чередом не пойдет. Не будет у меня в этой работе прежней непосредственности и радости. И у других…
— Все должно затушеваться со временем, — удивляясь другу, неуверенно сказал Губин. — Через годик-полтора с улыбками будем вспоминать этот инцидент.
— Нет уж, мне теперь не до шуток и не до улыбок.
Губин хотел было в пику другу рассмеяться, но не получилось у него и просто улыбки, настолько мрачен и серьезен был Букварев. Губин его таким еще не видывал, и ему стало не по себе.
— Странный ты, — только и сказал он.
— Да уж не такой, как ты, — с тяжелым чувством ответил Букварев. — Ты и в роли приласканной собаки преданно виляешь хвостом, и в роли побитой. И не стыдно тебе, что роль-то одинаково собачья.
— Ну, старик! Зачем так-то? — оскорбился Губин.
— Выйди, — тихо сказал Букварев.
Губин как будто похудел лицом за это мгновение и постарел. Он крякнул, подчеркнуто официально поднялся и, выпрямившись, высоко закинув голову, четкими шагами службиста двинулся к дверям. И только приоткрыв их, он все же оглянулся и покрутил головой, как бы говоря Буквареву, что понимает его горечь душевную, но все же оставляет за собой право простить оскорбление или не простить.
«Пусть и такое терпит, заслужил», — холодно подумал Букварев, а себе приказал:
— Ошибку исправлять должен в первую очередь я. И Губина должен заставить повкалывать, а не сердобольных девчонок. Только мы с Губиным знаем эти сопки. И вина наша…
«А вдруг дома сохранились мои и Любины записи и расчеты с той практики в сопках? — осенила его обнадеживающая мысль. — Ведь в наши-то записные книжки Губин своего поганого носа не совал и ничего в них не подделывал! Они же так могут помочь!»
Букварев тут же поумерил свою внезапную радость ядом сомнения, но все же быстро набрал номер домашнего телефона. Ответила жена.
— Люба! — снова обрадовался Букварев, теперь уже ее голосу. — У тебя в шкафу целый ворох старых бумаг. Нет ли среди них записей и черновиков, что делались для дипломного проекта? Тех только, что делали ты и я?
— Должны, наверное, быть. А зачем тебе этакая рухлядь? — спокойно ответила жена, но по ее голосу Букварев понял, что ей приятен этот звонок и приятно, что муж советуется с ней по делу, и что она может сделать ему пусть крошечную, но услугу.
И Буквареву стало как-то легче. Он зажмурился, вспомнив, как любил свою жену и ее голос там, в сопках, когда они на равных работали изыскателями и Люба ни в чем не уступала ему. Он подумал, что имей она такую же возможность работать, как он, Люба наверняка не отстала бы от него по службе. И ошибок бы не наделала: она не такая беспечная, ничего не рубит с плеча. И ему стало стыдно, что в последнее время он думал о жене как-то пренебрежительно, обижал и оскорблял ее своим поведением.
«Скотина я, — ожесточенно ругнул он себя. — Надя, конечно, чудесная девчонка. Но ведь жена-то от этого не стала хуже. Кто дал мне право относиться к ней так? Я ведь с любой знакомой и незнакомой женщиной разговариваю вежливее и деликатнее, чем с женой! Дурак и скотина! Не ожидал от себя такой низости… А еще Губина за низость презираю… Нет у меня права презирать. Надо будет перед ним извиниться…»
— Ты почему умолк, Вася? — тревожно звенел в мембране телефона голос жены.
— Да, да, — спохватился Букварев. — Найди эти бумаги. Мы их вместе вечером посмотрим…
— Хорошо… — прозвучал в трубке родной голос Любы, и Букварев услышал, как она затаила дыхание и ждет, не решаясь положить трубу.
«Ждет, что я еще что-то скажу, ждет, наверное, слов, которые помогли бы нашему новому сближению, — с теплой грустью подумал он. — А что я ей скажу?.. Ведь сегодня снова свидание с Надей».
— Буду