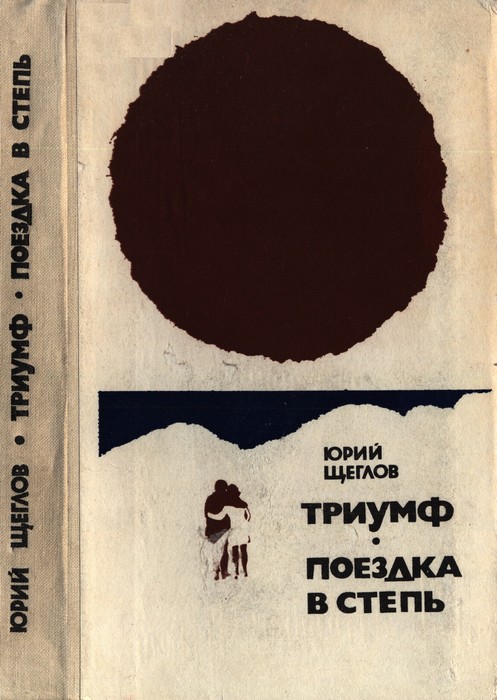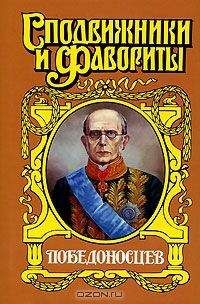запаянные колбы причудливой формы, наполненные подкрашенной жидкостью, в которой плавали диковинные растения и рыбы из пластмассы. Жидкость была обычно сиреневой. Сейчас они почему-то пришли на ум. Сбывали их на Бессарабке дешево — по пять, десять, пятнадцать рублей. Потом они исчезли, так в году сорок седьмом.
Я пошарил по карманам и обнаружил, что от двух десяток осталось три рубля. Я поднялся со скамейки, пересек площадь Калинина с фонтаном и свернул в вареничную, убогую комнату с прилавком и высокими столиками. Кто-то расплескал по полу кружку пива. Скользко, под ногами хлюпает. Грязь неимоверная, толчея. Меню в раздевалке. Раздевалка в конце, рядом с кухней. Ну и удобства. Перегидролевая кассирша в теле, килограмм на сто. Нелегко ей на табурете. Но терпит, улыбается, подсчитывает и обсчитывает. Меня вот на десять копеек. Порция с творогом — два семьдесят, с мясом — три двадцать. Взял за два семьдесят. Полил уксусом, мазнул горчицей. Встал у окна боком, ем, наслаждаюсь. Напротив парень, как говорится, «метр с кепкой». Кепка, кстати, модная, клетчатая — шесть листков, одна заклепка, козырек — аэродром. На плечи накинута шерстяная спортивная куртка. Вокруг шеи вдобавок накручен шарф — полоса, отрезанная от шотландского пледа. Жарко ведь! Что, он на Северный полюс собрался? Сапог кирзовый плотно поставлен на чемоданчик. Привычный, видно, к вокзалам. Года на три меня старше. Очки роговые — «консервами». Взгляд усмешливый, исподлобья. Подбородок в белокуром пуху.
— Тугрики провинтил, студент?
Не люблю я этого пижонского язычка мальчиков из Липок и с улицы Карла Либкнехта, но сам прибегаю к нему, чтоб не особенно отличаться. Самолюбие не позволяет. Приятно бывает почувствовать себя своим среди своих.
— Ничего не попишешь, — ответил я охотно, — винтанул чуток.
И я, мол, не лыком шит, орешек каленый и тертый. Пыжусь, пыжусь, а за спиной одна морковка.
— Возьми трояк? Выбей с требушиной. Душа ведь мясного просит?
Нет, он не из Липок и не с улицы Карла Либкнехта. Те за трояк удавятся. Впрочем, что это я? Я сам с Карла Либкнехта. Не удержался, однако, взял ассигнацию, выбил с мясом. Кассирша опять обсчитала на десять копеек. Регулярно дело у нее налажено. Встал рядом, ем молча.
— Чем торгуешь, геноссе? — поинтересовался.
— Да я не продавец.
— Не в том смысле, геноссе. Каждый чем-нибудь торгует. Кто овощами, кто знаниями, кто политикой.
Ах, вот оно что! Ну теперь яснее ясного. Он — черт и будет меня соблазнять, как Ивана Карамазова у Достоевского. Я весь пронизан литературой, везде ищу сходные ситуации, хоть и срезался на Короленко. В прошлом году Тэд Шапиро, золотой медалист и лауреат академической олимпиады по физике, схлопотал в Политехническом на «атомном» тройку и вынужден был отчалить в силикатный. Экзамен — лотерея. Нет, нет, он черт, черт. Вот увидите, примется соблазнять.
— Спрос — предложение, товар — деньги, — продолжал метр с кепкой, или мой черт. — Разделение труда. Марксизм! Вон фрей школьников калечит. Портфель его выдает, двойками истерзал, наверно. Я, к примеру, свою рабсилу пытаюсь сбывать. Сию минуту определяю курс — куда: Совгавань, Уссури, Дальстрой или осточертевший и превосходно известный Магадан-бей. Завод «Рено» в Париже и алмазные копи в районе Иоганнесбурга, к сожалению, исключены. — Эх, холмы да ямы, да речка Кама, да городок Воркута… Могу на полуостров Шмидта дернуть. Раньше сопровождающим гонял на самолетах. Яшшики, накладные, — он произнес почему-то вместо обыкновенного «щ» двойное «ш». Нет, он определенно черт, черт! — Приземляешься на посадочной площадке, документы оформил — пожалуйста, грузись. Забил колонну, аптеку, допустим, или сухофрукты. Следи, чтоб шоферюги на повороте яшшики не скинули, — опять двойное «ш». К чему бы это? — Иначе начальство полярное шкуру наждаком спустит. И розовый ты — вроде мать едва родила. Однако кулаками надо обладать ядреными.
Слушаю, мотаю на ус: может, действительно в сопровождающие влезть? Морковку и завод побоку. Ветер странствий — в лицо. Зацепиться бы за этого парня. С ним не пропадешь. Ростом мал, в кирзе своей тонет, но стоит на земле, как дубок, плотно, цепко.
Лет через десять такие же ребята, сменив сапоги на кеды и закинув за спину зачехленные в брезент гитары, рванут в Сибирь и на Дальний Восток, создав свою особую культуру, своих бардов, своих знаменитостей и своих изгоев. Хороши ли они будут? Дурны ли? История вынесет им беспристрастный приговор. Но они будут, они появятся, и мой черт, кажется, из их отчаянной породы. Он, правда, пока не имел ни гитары, ни кед — промышленность наша не выпускала, и в руке он держал трофейный облезлый фибровый чемоданчик, а не кожаную сумку или рюкзак, но он был вроде застрельщика — ей-богу, вроде предтечи.
Вышли вместе. Я и не обратил внимания, как отхлестал дождь, смыв сиреневый — душный — оттенок. Калы на клумбе утратили свой зловещий багровый цвет. Пахло свежей зеленью, как на огороде. Воробьи пили воду из лужи, в которой отражались наши сокращенные фигуры. Мой черт протер запотевшие очки-«консервы» и спросил:
— По большому звезданем или по малому?
Я заколебался, не зная, что он предлагает и что мне ответить. На всякий случай согласился звездануть по малому.
— Ладно, по малому так по малому. Да ты не смущайся. Я срок не отбывал, не скомпрометирую. К трем в оргнабор, к геноссе Кухарчуку. Значит, слушай сюда: на Николаевской, теперешней Карла Маркса, в придворной бадыге по сто пятьдесят «Одессы», пятнадцатилетней выдержки. И по «мишке на лесоповале». Напротив крытого передохнем — по стаканчику «Перлина степу», две медали, там виночерпалочка — блондиночка, ах — бюст фужеристый! На Красноармейской три семерки хлобысть и пару пирожков. С вязигой обожаю…
Кто он, этот черт, сладкоголосый соблазнитель? Из какой семьи? Где его родители? Откуда у него хрустящие ассигнации? Почему он так щедр? Ведь сейчас, в пятьдесят первом, у людей совсем немного денег. Кто же он? Вор? Бандит? Взломщик несгораемых касс?
— Нет, я не вор, — ответил мой черт, догадливо прищурившись, — не беспокойся. Я в Кировской области работал на лесопилке, вольнонаемным… Вот пощупай, — и он протянул ладонь, покрытую желтыми буграми мозолей. — Словом, через садик к «академбочке» выберемся, к альпенштоку прикипим, среди интеллигенции потолкаемся. «Академбочка» знаешь где? На улице Володи Короленко. Воистину святой человек был, царствие ему небесное. Там лоск наведем купажами, не путай с купатами в подвале «Абхазии». Три звездочки по сто в одном стакане с полусухой шипучкой, четыре медали. Арэстократично, но пэчень подрывает отменно. На Прорезной, ныне Свердлова, красным побалуемся, «цимлянским». Вот тебе и малый круг кровообращения. Выдержишь?
— Нет, — признался я, — не выдержу,