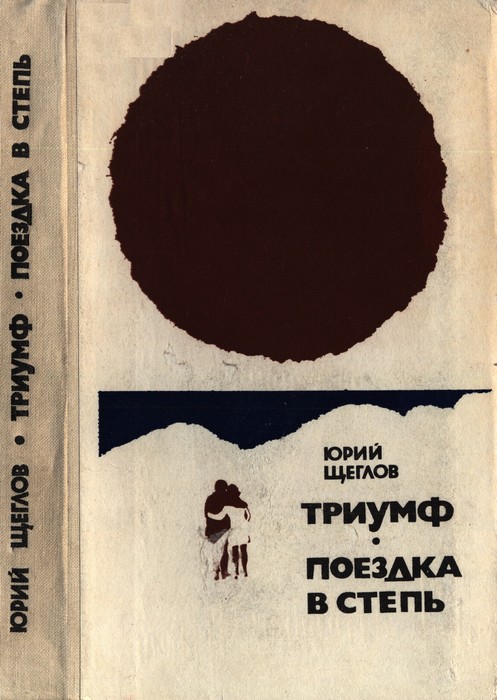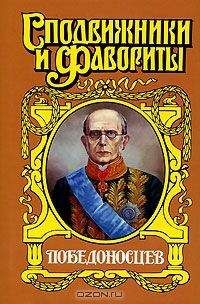их родителей большие связи и крепкий блат. Тебе ли с ними тягаться? Не унывай и передай привет матери».
Мне на связи и блат наплевать. Не потому, что я хороший и честный. Я пока просто не понимаю, что они означают в нашей жизни, и я пока просто не понимаю, что есть люди, которые к ним прибегают. Впрочем, я вообще мало в чем разбираюсь. Я иначе воспитан. Нам что давали, то мы брали, и ни крошки со стороны. Вдобавок сейчас я разозлен на весь свет.
Несколько месяцев назад, гнилым февральским утром, мой отец умер от разрыва сердца. Мой отец был прекрасным инженером, специалистом по строительству шахт. Однажды его вызвали на совещание к высокому начальству, потому что в какой-то шахте произошел обвал. Отец в прошлом году не соглашался на ее пуск, не подписывал акт, хотя его заместительница — некто Телеповская — прозрачно намекала на недопустимость замедления ввода в эксплуатацию проектных мощностей. Мой отец человек не робкого десятка — на фронте доказал и себе, и другим. А здесь не выдержал, тормоза отказали, и упал он, сжимая окостеневшими пальцами нелегко доставшийся ему — в кровавом бою под Ростовом — партбилет.
Соседки утешали маму — духом унесло хозяина в лучший мир. Как праведника. Уж ежели суждено вам — слава богу, что не мучился, не болел. Сын поступает в институт, стипендию получит.
Но сын никуда между тем не поступил, потерял даром время и теперь болтается по закоулкам летнего города, плохо соображая, куда себя приткнуть.
Какие уж тут связи и зачем они?
А город словно не обращал внимания на мою ржавеющую под откосом судьбу. Днем он сверкал и переливался сочными красками, шипел водой из дворницких шлангов, объедался впервые за шесть послевоенных лет вдосталь появившимся фруктовым мороженым — весной отладили дополнительный цех на молочном комбинате, — пах он и распустившимися цветами — гигантские клумбы разбили на месте недавно убранных развалин. Он, город, подымался вверх белыми керамическими стенами, и, несмотря на то, что старожилы презрительно отзывались о новой архитектуре, мне она нравилась чистотой и ясностью линий. Я любил, правда, и сохранившиеся здания, особенно банка, Совета Министров, Музея украинского искусства с каменными львами, оперного театра, крытого рынка, и несовместимость их с будущим обликом пока не волновала меня. Я любил и то, и другое, я любил свой город целиком, и все тут. Я любил даже его разрушения, следы войны, потому что они напоминали мне о детстве.
Но особенно я любил его парки, драгоценной — изумрудной — глыбой нависшие над рекой, в которых по вечерам устраивались бесплатные концерты. Шум взволнованной ветром листвы часто сопровождал негромкую музыку, придавая ей какое-то необъяснимое — неестественное — очарование, — будто древний гобелен во дворце вдовствующей императрицы Марии Федоровны, изображавший квартет на берегу ручья, ожил и с него полилась просветленная — моцартовская — мелодия. Жаль бросать все это великолепие, жаль. И как сообщить матери о своем решении? Проблемы, проблемы. Может, еще перемелется и мука будет, а из муки той пирожки с повидлом?
Впрочем, я сильный рослый малый — справлюсь. Мне моих семнадцати никто не дает. Сегодня бродил день-деньской в поисках физической работы, но ничего приличного не подвернулось. В ученики токаря или слесаря по объявлению на триста целковых идти почему-то не хочется. Явиться бы домой сразу с солидной получкой. Вот, дескать, мама, пока провалился, но, как видишь, не пропадем. Мать ждала стипендии, как манны небесной: после смерти отца никаких сбережений, одни облигации. Трудно втроем, с сестренкой, на зарплату. Ночую пока у Сашки Сверчкова на Керосинной, матери по телефону вру безбожно, что продолжаю грызть гранит науки. Неделю недостает духу открыть истинное положение дел. Сашке Сверчкову проще — у него мачеха, и он до осени закатился на пляж.
Во дворе на Керосинной дровяной склад. Заведующий, узнав о моих мытарствах, надоумил: сбегай на Товарную, там свободные руки всегда требуются.
4
Ночью на Товарной светло и людно, туда-сюда снуют грузчики, но где их нанимают, никто не в курсе: то в третьем пакгаузе — говорят, а там замок амбарный, то во времянке у овощного пандуса, а там путевые обходчики ужинают. В конце концов отыскал — избушка на курьих ножках, из досок сколочена. Вывеска нелепая: склад, мелкая стеклотара. Сидит хмырь — иначе не назовешь — в кожанке, пиво из горлышка потягивает. Я эти термины — блатные да полублатные — не люблю, но кто же он, если у него лицо красное, как кусок мяса, челка бандитская, флажком, папироса в углу рта — пьет не вынимая, да вдобавок на запястье орел голову Медузы Горгоны тащит. Ну кто он такой есть? Как его назвать?
— Кепку сыми, сырник!
Кепку я снял, правильно замечено. Возможно, он не хмырь, а вполне приличный начальник. Но почему я-то — сырник? Не дожидаясь вопроса, ответил:
— Сырой ты. Нажми — сыворотка брызнет. Крови в тебе маловато. У нас из инфизкульта три-четыре дня в декаду — и копец! Иди на морковку, там бабья лафа. Шестой пандус, тупик, к Ивану Филипповичу.
Разговорчивый, оказывается, кожан, либеральный и догадливый. Внешность обманчива — вроде он демобилизованный морской пехотинец, а на поверку — брат милосердия, как Уот Уитмен. Отыскал тупик, шестой пандус. Возле женщины суетятся, подсчитал: двадцать. В ближнюю дверь морковку вносят, в дальнюю — картошку. Напротив пакгауза два фонаря мигают, да на стрелке стеариновая свеча оплывает. Спасибо, ночь светлая. В общем, чеховская обстановочка на станции. Ничего от современности — ни кранов, ни подъемников. Верейки таскают по двое — к грузовым машинам.
— Где Иван Филиппович? — спросил, расхрабрился.
— Он в кабине, — ответила женщина, не разглядел какая.
Я удивился, распахнул дверцу, смотрю — парень газету читает. Аккумулятора ему не жаль. Симпатичный, кудрявый, при галстуке и в соломенной шляпе. По виду года на два старше.
— Ванюша, — говорю, — на морковку меня прислали.
Он от печатного текста оторвался и непечатным текстом по мне ахнул:
— Ты как, трах-тарарах, гусь лапчатый, меня окликнул?
— Ванюшей, — ответил я, пораженный вначале его интонацией.
— Я тебе покажу Ванюшу! Иди, трах-тарарах, на картошку, в крайний.
Ну, я не стерпел, тоже покрыл его и отправился на морковку, как кожан распорядился. По-моему, не произвело впечатления. Я обернулся по дороге и пригрозил: в комсомольскую организацию пожалуюсь. Есть же на товарной комсомольцы!
— Плевал я на твою организацию. Ты живым выберись отсюда! — крикнул он вдогонку, яростно хлопнув дверцей.
Эге, подумал я, здесь что-то горьковское начинается. Откуда столько злобы?
Нет, никогда