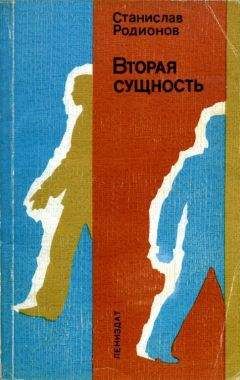Тут не хуже черноморского курорта. Сюда бы с женой, в нормальный отпуск, в спокойном состоянии… Но пейзажи и этюды потеряли для меня смысл — мне казалось, что красо́ты теперь не для меня. Вернее, курорты, пальмы и отели не для меня, а эти скромные березки и валунчики как раз для неудачников. Здесь можно тихо сидеть и размышлять о смысле жизни. Это ведь их хобби. Удачникам не до смысла жизни — они живут.
Я огляделся. Мое сознание вроде бы отлетело и воспарилось куда-то к серебристой макушке березы. И видело сверху понурого человека, сидевшего на теплом граните. Кто он, что с ним?
Мы привыкли смотреть на себя из прошлого — оттуда удобно сравнивать. Кем был и кем стал… Но теперь моей воспаренной душе хватило высоты птичьего полета, чтобы глянуть на меня из будущего. Не из далекого прошлого, а из далекого будущего. И она ничего не увидела, кроме понурого человека на теплом граните. Неужели я миновал свой пик, миновал свою точку кипения и дальше — замерзание?
Я вздохнул и погладил березовую белизну. Мне показалось, что на ствол уселся ровненький прямоугольник каких-то мелких букашек. Я привстал… Слова, написанные шариковой ручкой. Вернее, буквы вдавлены в первый, нежный слой коры, который можно отклеить, как папиросную бумажку. Стихи.
Слава вам, безмоторные
Две мои ноги.
Бегут дороги торные…
Веселые шаги!
Кто их написал? Хмельной лось? Впрочем, у лося четыре безмоторные ноги. Я обошел березу. Да тут не одно…
На встречу к соснам и туманам,
На встречу к белке и ежу…
Иду от радости я пьяным,
Что на земле своей живу.
Не хмельной лось, а хмельной грибник. От радости, что набрал корзину белых. Травоядный, которому хватает березки с лужайкой. Разумеется, я тоже любуюсь в отпуске пейзажами. Но в век генной инженерии, электроники и мегаполисов эти пейзажики стали лакомством, вроде десерта к обеду. Впрочем, они хороши для одиночества.
Мои леса дороже всех рублей,
Мои леса не для рвачей.
Ага, рвачей. Это не обо мне, которому и урвать-то ничего не хотелось.
— Как стихи?
Я вздрогнул и обернулся…
Под сосной в странной закостенелости стоял, как мне показалось, механический человек — длинная, худая, угловатая фигура вроде бы воткнулась в землю. Острое и вытянутое лицо — крепкое, будто вырезано из соседней красной сосны. Длинный и острый нос, годный для долбежки. Очки в железной квадратной оправе. Шапочка вроде брезентового колпачка. Выгоревшая куртка с медными пуговицами. Высокие сапоги с какими-то металлическими застежками. На согнутой руке висит топор с длинной ручкой. Справа привалился к ноге громадный мешок, слева сидит небольшая собачка, похожая на гималайского медвежонка.
Этого механического человека где-то я видел. В детстве, в сказке. Только на голове у него была не брезентовая шапочка, а железная воронка для смазки его суставов — чтобы не заржавели.
— Понравились стихи? — повторил роботоподобный человек нормальным мужским голосом.
— Не Пушкин.
— Конечно, не Пушкин, а я.
Он подошел, подтащив мешок, — собачка шла за его ногой как привязанная.
— Почему вы пишете их на дереве?
— Они о природе.
— На бумаге удобнее, — не согласился я.
— Нет, стихи не для бумаги — или в сердце, или нигде.
— Или на березе, — усмехнулся я.
— Или в песне, — серьезно добавил он, закидывая мешок за спину.
И мне показалось, что его рука несмазанно скрипнула. Собачка от этого скрипа, а может, от поднятого мешка свернула хвост колечком и быстро забежала вперед.
— Вам куда? — спросил он.
Я рассеянно глянул на сосны. Они стояли красноватой стеной. Под ними не было ни травы, ни черничника, ни кочек — лишь вереск. И солнце с воздухом, которые соединились в какой-то жидкий огненный дух, проникавший сквозь мой пиджак ласковым теплом.
— Что-то я сбился…
— Пойдемте провожу. Вы поселились на Старой даче?
— Да.
Собака засеменила впереди. Хозяин пошел за ней широченными шагами — в его мешке что-то похрустывало. Я поспевал за ними, не слишком уверенный, что они мне необходимы. Не глухомань же.
Он вдруг сбросил мешок и оглушительно хлопнул в ладоши. Собака остановилась — черная, патлатая, — вопросительно повернула морду. Мой спутник махнул рукой, задавая ей направление. Она кивнула и затрусила по новому пути.
— А слов не понимает? — удивился я.
— Черныш глухой.
— Почему?
— Нашел его в лесу полудохлым щенком.
— А как он попал в лес?
— Пришельцы бросили.
Я хотел было спросить об этих пришельцах. Но встреча наша случайна, идем мы до развилки, больше не встретимся… К чему и разговор?
Мы вышли на песчаную дорогу, на ту, рассекающую сцену-бугор. Потеплело настолько, что пиджак мне казался лишним. Ветерок свободно бежал сквозь сосняк, таинственно шевелил папоротник и обдавал нас. Казалось, смола возгоняется с коры и течет вместе с воздухом на дорогу.
— А как вы узнали, что я со Старой дачи? — все-таки повело меня на разговор.
— Пришелец, — бросил он, хрустнув мешком.
— Кто пришелец? — Я непроизвольно глянул в подступившую чащу.
— Вы, натуральный.
Его очки блеснули металлом, будто вместо стекол оказалась белая жесть. На острие топора играл неосторожный солнечный зайчик. Ломкий мешок лежал на спине безгрузно.
— Прилетел на «летающей тарелке», — усмехнулся я.
— Ага, — кивнул он.
Социологи утверждают, что в городе человек за день может встретиться с десятью тысячами себе подобных. На работе, на улице, в общественном транспорте… Поэтому я и уехал — от десяти тысяч. И в пустом лесу встретил одного, дурака. А дураков следует избегать. Тем более незнакомых, тем более механических. И что у него в мешке? Запчасти к самому себе?
— Я докажу, — пообещал он.
— Что докажете?
— Что вы пришелец.
Нет, он не дурак — он сумасшедший. Разгуливает по лесу с острым топором. Пишет стихи на деревьях да ловит пришельцев вроде меня. И в мешке у него не запчасти, а сушеный скелет такого, как я, заблудшего пришельца. Мешок просторный, найдется место и для второго.
— Я приехал на электричке, — неожиданно вырвалось у меня.
— Нет, ты свалился с зенита, — рассвирепел он от моего упорства, прижал ко мне свободное плечо и столкнул с дороги в сухое болотце. Его острая красная рука вонзилась в куст:
— Что это?
— Черника, — разглядел я крупную сизую ягоду.
— Гонобобель. А это что?
— Муравейник.
— А почему без муравьев?
— Переехали, — нашелся я.
— А кто вот полетел?
— Птица.
— Ясно, что не корова. Какая птица?
— Пернатая, — буркнул я и вышел на дорогу.
Поздновато мне сдавать экзамены. Да и кому? Знал бы этот стихотворец, сколько экзаменов принял я за время своего доцентства. Больше, чем он собрал грибов в этом сосняке.
— В лесу столько загадок, что будешь ходить тут всю жизнь и не отгадаешь, — сообщил он мне как ни в чем не бывало.
— Все загадки отгадываются, — ответил я, чтобы не молчать.
— Которые отгадываются, те не загадки, а ребусы. Хоть какой институт кончай, а коли в лесу не был, то ничего не знаешь. Я вот иду за ответами в сосняки.
— Наверное, в стихах? — рискнул я на шутку.
— Потому что в лесу делается все, что делается у людей. — Он не обратил на нее внимание. — Вон две сосенки встали бок о бок, тесно им, разъехаться бы, а то будут друг дружке жизнь заедать. А вон поросль тянется, через свое времечко наберет силу и стариков заглушит. А вот…
— Что у вас в мешке?
— Сосновые шишки для самовара.
— А вы кто? — спросил я на свою голову.
Мешок с шишками для самовара полетел на землю с таким скрипучим хрустом, что Черныш услышал. Мой спутник не то чтобы щелкнул каблуками, но сдвинул пятки и чуть изогнулся; его правая рука, описав что-то волнообразное — снизу вверх и опять вниз, защемила мою ладонь деревянной крепостью.
— Владимир Пчелинцев, сторож садоводства, монтер и рабочий лесхоза.
— Антон Викентьевич, доцент, — выдавил я, шевеля занывшими пальцами.
— Давай без отчеств и на «ты», — лес простоту любит.
— Давай, — развеселился я.
Кругом стояли сосны. И этот Пчелинцев, сторож и так далее, тут вроде сосны. Дитя природы. Собирает шишки и крапа́ет стихи. Знает ли он, что такое «доцент»? Да и разойдемся мы сейчас, как два встречных грибника.
— Вон мой дом. Пока, — облегченно попрощался я.
— Здорово мы познакомились, а?
— Еще бы, — заторопился я и сказал бездумно, как делал это в городе: — Заходи как-нибудь.
— Когда?
— Что когда?
— Зайти.
Я помолчал, осознавая последствия оброненных мною слов.