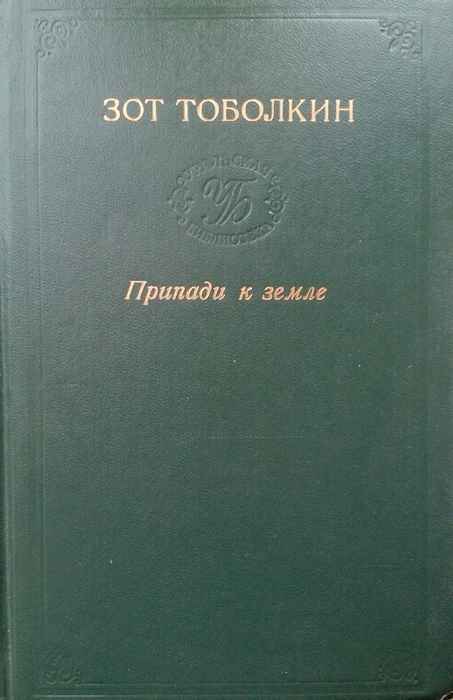- Иду вечор по елани, ревёт кто-то, – будто самому себе рассказывал Науменко. – Подхожу – Шурка. Ты её не трогал, Дугин?
- Опомнись, бог с тобой! В мои ли годы?
- На годы не спирай! Знаю тебя – мытарь! – приближаясь к нему, говорил Науменко. – На меня писал что-нибудь?
Дугину стало страшно. Вокруг никого не было. Зашли далеко.
- Эко придумал! Мы с тобой одной верёвочкой связаны, – стараясь не отводить глаз, отвечал он.
- Сазонов ко мне круто переменился... Стало быть, не без причины. Знай, если меня возьмут – ты следом загремишь! Я тебе не мешаю. Колхозу пользу приношу. И ты мне не мешай.
- Ладно. А девку не тронь! Не про тебя. Жени их и приданое выдели, чтобы нужды не знали... Слышишь?
- Слышу, Алёха! – отозвался Дугин, думая про себя: «Ловко распорядился чужим-то... Ишо неизвестно, как дела повернутся...».
- Иди и не забывай, о чём говорили!
Науменко медленно повернулся и зашагал к станам.
Через день к Земляному подъехали два милиционера. Они разыскивали Науменко. Тот, в нижней рубахе, пропитавшейся потом, вместе с Яминым и Афанасеей метал сено. Афанасея была разговорчива и шутила. Куда-то исчезла у бабы суровина. Губы растягивало улыбкой, глаза излучали мягкий необычный свет.
- Есть силёнка, – говорила она. – Не всю в вине утопил...
- С вином покончено, знаешь ведь, – тихо, словно это было тайной двоих, сказал Науменко.
- Знаю, а всё одно следить буду!.. Как за дитём, пока оно... не появилось...
- Науменко? – спросил один из милиционеров с толстым бабьим лицом.
- Вот и всё, – ещё тише сказал Науменко. – Прощай, Афанасея. Больше, пожалуй, не увидимся. Завязался мой узелок.
- Пройди к машине, – приказал милиционер.
- Всё идёт как надо, Гордей! Ты не теряйся, – сказал Науменко. Марье поклон передай... Прощайте. Пока жив, помнить буду...
- Шевелись! – сердито подтолкнул его другой милиционер.
- Это Дугин... – не успел договорить Науменко. Его втолкнули в машину. Рыжко, словно чуял, что совершается что-то непростительно горькое и нелепое, печально ржал, поворачивая голову вслед уходящей машине.
- За что его? – спрашивал Панфило. – В чём провинился?
Ямин ожесточённо грохнул вилами по берёзе, зашагал прочь.
Было душно. И тихо.
Так бывает перед грозой.
Из-за стогов вышли все, кто близко работал. И все молчали.
Никто ничего не знал.
Никто ничего не понял.
«За что?» – с вялой пугливостью шелестели деревья. Кто мог ответить им?
За Яминым увязался Евтропий. Ноги его подгибались, вязли в кошенине. Он то широко шагал, то останавливался и топтался на месте. Догнав Ямина, ни о чём не спросил... Оба долго и потерянно глядели друг на друга, не замечая, что из кустов за ними следит чужой человек. Они повернули к кустам. Человек склонился и по-ужиному пополз в заросли, стараясь не шуметь.
На следующий день в Заярье позвонил Сазонов. Пермин после его звонка прискакал к Земляному.
- С повышением тебя! – весело поздравил он Ямина. – Сазонов велел остаться за председателя. Того отзывают куда-то...
- Отозвали... за решётку.
- Вот те на! А я, дурной, летел, радовался... Как же это, а?
- С Марьей не дали проститься, – сказал Евтропий. – Она в тягости...
- За её не хлопочи. Баба как шапка: кто купил, тот и надел.
- Надо к Сазонову ехать. Может, он ясность внесёт?
- Поеду, – решил Гордей.
Бузинка.
Не бог весть как далека она. Но для Гордея – чужая сторона.
На пригорке два кирпичных здания. Одно – райком, другое – бывшая церковь – тюрьма. В ней и сидел когда-то Гордей. А теперь, вероятно, сидит Науменко. Ямину даже показалось, что тёмная фигура в тюремном окне и есть Григорий и что это он внимательно и тоскливо смотрит на волю, которой лишен, словно пойманная птица.
«За что? – думает Ямин. – Ведь наш он...»
- Сейчас доложу, – поднялась миловидная райисполкомовская секретарша. – У него товарищ один...
Гордей нетерпеливо топтался, остерегаясь ступить на нарядный ковёр.
- Не терпится? – приветливо улыбнулась девушка. – Сейчас ещё спрошу.
«Не таким был Сазонов!» – осуждающе подумал Гордей.
Прошёл час. Нина снова зашла к Сазонову. И вот наконец обитая кожей дверь открылась, выпустив сперва Раева, потом Сазонова.
- Ко мне? – спросил следователь.
- Бог миловал! Не позовёшь – не приду.
- Не заслужишь – не позову, – выходя на улицу, усмехнулся Раев.
- Заходите, Гордей Максимыч! Прошу извинить за задержку.
- Недосуг мне штаны-то протирать в передних! Люди сено косят...
- Не надо ворчать. С Раевым разбирались.
- Теперь всё ясно?
- Если бы! Сейчас чайку соображу. Нина! – заглянула секретарша. – Чаю нам принеси!
Ямин удивлённо покосился: породнились, что ли, на «ты» обращается к секретарше.
- Женился?
- Рискнул на старости лет.
- Какие твои годы! Почто в Заярье глаз не кажешь? Забыл?
- Где там! Вижу его во сне и наяву. Рассказывайте, как живёте...
- Живём, хлеб жуём, – неопределённо сказал Ямин. – Изменений вроде никаких.
- Так уж никаких.
- Науменко вот...
- Знаю. Со следователем о нём говорили. Как думаете, виноват он?
- В чём? Нам ведь не сказали. Молчком взяли – и всё.
- Обвинения серьёзные. Очень серьёзные...
- А ты им веришь? – мягко упрекнул Ямин. – Не может быть, чтобы человек, который за власть воевал, против этой же власти выступил... Может, обидела она его? Дак нет вроде... Вот и выходит, что ошиблись. Или я неладно говорю?
Сазонов молчал, тихонько дуя в стакан. Не дождавшись ответа, Ямин глотнул чаю и продолжал:
- Я так думаю, что разберутся...
- И мне так кажется, – Сазонов прикрыл глаза. Голос его был тоскливым, меркнущим, Ямин заметил, как постарел он за это время. Под глазами