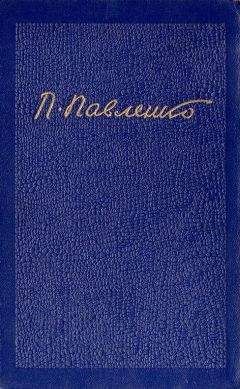Но особенно выделялись в этой толпе портовых модниц и модников два знатных гостя, два турка, — вероятно, из импортеров. Один — большой, грузный, бритоголовый, в феске, с длинными руками, свисавшими чуть ли не до земли; другой — тонкий, в котелке; оба в узких пиджаках, распертых на груди крахмальными рубашками с выпуклой грудью, с яркими галстуками.
Издали очень вежливо Виктор раскланялся с Раисой Павловной и Степаном, небрежным движением достал из кожаного карманчика широкого пояса золотые часы и крикнул:
— Маруська, собралась?
Тогда дверь мазанки медленно открылась, вышла Маруся и остановилась на каменном крылечке. Она остановилась на крылечке на одну-две секунды, и этого было достаточно, чтобы все, кто был во дворе, поняли, что им вдруг дано увидеть красоту и величие красоты, воплощенной и осознанной в девушке, стоявшей в дверях жалкой лачуги. Что изменилось в Марусе с тех пор, как Степан, отбившийся от дома, не видел или не замечал ее? Как будто ничего и в то же время решительно все. Права была Раиса Павловна, говорившая о внезапном расцвете девушки. Жизнь совершила одно из своих чудес: красота, таившаяся в девушке, робкая и хрупкая, стала явной, совершенной, смелой и утвержденной навсегда. «Она стала выше, пополнела!» — подумал Степан, пытаясь сравнить нынешнюю Марусю с прежней, и сразу же оставил эту попытку, оскорбительную и никчемную.
Медлительным, спокойным взглядом девушка, стоявшая на крылечке, обвела всю компанию, и сразу стало ясно, что разряженные портовые гуляки и их подруги — уродство и нищета перед нею, перед единственной. И казалось, что главное тут не в красоте лица и громадных глаз, не в стройной округлости высокой шеи и всей фигуры, не в черной короне из толстых кос, а в сознании своей власти, могущества. Полные губы, темно-красные на смуглом и нежно-прозрачном лице, едва заметно вздрогнули в скупой улыбке, и, ограничившись этой подачкой, Маруся снова стала спокойной, вернее, бесстрастной, сделала один шаг и таким образом присоединилась к тем, кто пришел за нею.
Нет, она еще была далеко от них, недосягаемо далеко. Широко раскрывшиеся, будто гневные, грозящие и умоляющие глаза смотрели на Степана. «Вот я ухожу, — говорили они. — Видишь, ухожу… Что же ты молчишь? Ну хоть пожелай, чтобы я осталась! И пойму, останусь, я, королева, останусь». Но Виктор уже предложил ей руку, уже что-то лопотали турки, кланяясь, прижимая ладони к груди, уже составлялись пары. В первой паре оказались Маруся с Виктором под эскортом двух турок; парень с гитарой, шедший вслед за первой парой, взял вступительный аккорд, и послышалась какая-то чувствительная мелодия. Процессия двинулась к воротам. Маруся шла не оборачиваясь, прямая, едва заметно покачивая головой в такт песне. Дождавшись, пока не миновала их последняя пара, старый Христи Капитанаки и его помощник подняли корзины с земли и тоже ушли. И такую щемящую, ноющую грусть вдруг почувствовал Степан, такое острое сожаление по упущенной возможности — возможности отвергнутой и все же продолжавшей по праву принадлежать ему: только нагони ее, только прикажи вернуться…
— Ты понимаешь, что произошло? — покачала головой Раиса Павловна. — Ты понимаешь, с кем она пошла? С Виктором… К чему это приведет, подумай! Знаешь, он бросил работу в Главвоенпорте, нигде не работает… На какие же средства он так одевается? Вчера пришел к нам, попросил прочитать название золотых часов с репетиром. Просто захотел похвастаться… мальчишка… Сказал, что выиграл часы в карты. Кто ему поверит…
— Ворует, — предположил Степан. — Но, судя по этим двум туркам, спекулирует.
— И вот Маруся в их компании. Как жаль, что Мишук не смог подойти к ней умненько! Я так надеялась… Глупый!.. А что ей даст Виктор? Но я поговорю, я еще поговорю с нею, сумасшедшей… — Мать спросила: — Ты пойдешь сегодня куда-нибудь?
Он едва не сказал «нет», но сдержался; невыносимо тоскливо было здесь, в тишине, у трех неподвижных траурных кипарисов.
— Меня приглашали на сегодня Дробышевы, но я еще не знаю…
— Непременно, непременно пойди к ним! — обрадовалась Раиса Павловна. — Я знаю, что дома тебе скучно, тяжело… Я говорила с Владимиром Ивановичем по телефону… помнишь, когда ты написал статью о плотине. Он хорошо, сердечно относится к тебе. Я сразу почувствовала, что он очень хороший человек.
В назначенный час Степан с тяжелым сердцем открыл калитку дробышевского двора, вспомнив свое первое посещение Владимира Ивановича. Но теперь в доме все было радостно, чувствовалось приближение большого торжества. В серебристой легкой зелени маслины горели двенадцать бумажных разноцветных фонариков, именно двенадцать — по числу лет, прожитых хозяевами в мире и согласии, как сразу же объяснил своему гостю Владимир Иванович. В неподвижном воздухе маленького дворика висел вкусный горячий запах. За столом под маслиной две старшие девочки Дробышевых и Борис Ефимович Наумов шумно во что-то играли, а на другом конце стола что-то писал Одуванчик, охваченный жаром творчества.
— Киреев, на помощь! — позвал Наумов. — Меня обыгрывают, как маленького. Это шайка-лейка!
— Нет-нет, сейчас за стол! — крикнула из кухни Тамара Александровна. — Киреев, молодец, что пришли, бука вы этакий! Я жарю последние беляши… Девочки, накрывайте на стол… Володя, приготовь вино и открой сардины… Коля, кончайте ваш стихотворный тост.
В дверь кухни Степан увидел Тамару Александровну, колдовавшую у плиты, приодетую и раскрасневшуюся. Она нетерпеливо переступала с ноги на ногу, постукивая по каменному полу высокими каблуками лакированных туфелек и посвистывая.
— Видите, Киреев, сколько беляшей, целая гора! — похвасталась она. — И все надо съесть немедленно — беляши только с плиты и хороши. Я боялась, что вы не придете, вашей порцией завладеет Володька, и дело не обойдется без стакана касторки… — Она сняла передник и приказала: — Мальчики и девочки, за стол!
Беляши были поданы, и вино разлито по стаканам. Впервые Степан отведал беляшей. Тамара Александровна, уроженка Казани, мастерски готовила эти крохотные мясные ватрушки, полные горячего, острого сока. Дробышев называл их мясным пирожным.
— Вы просто варвар, Киреев! — ужаснулся он. — Долой вилку! Зачем вы тычете в беляш железом? Вытечет весь сок… Их надо брать кончиками пальцев… священнодействуя, отправлять в рот целиком, закатывать глаза и тотчас же запивать вином, чтобы они немного охладились в пути следования. Подражайте мне, Киреев!.. Ну, каково?
— Так вашему изумленному взору вдруг открылась в человеке самая низменная черта его характера — чревоугодие, — сказала Тамара Александровна. — Лучший способ затащить его к семейному обеденному столу — это пообещать ему беляши или вареники с вишнями… Вам нравятся беляши, Киреев? Не слушайте знатоков хорошего тона, которые запрещают гостям хвалить стряпню хозяек. Похвалите меня!
Все участники торжества сделали это искренне.
В доме проснулась и потребовала внимания младшая дочурка Дробышевых, белокурая и синеглазая, страшно серьезная принцесса Нет-нет, как называли ее в семье за капризы. Дробышев представил ее Степану как свое улучшенное издание, и она соблаговолила чокнуться со своим новым знакомым маленьким стаканчиком, в который Дробышев налил домашнего шипучего кваса.
Принцесса Нет-нет отказалась чокнуться с отцом во второй раз, сказав с уморительной важностью:
— Папа, ты же знаешь, что тебе вредно пить так много. Ты опять будешь хвататься за почки.
— Растет будущий работник эркаи! — сказал по этому поводу Наумов.
Вдруг Степан почувствовал себя необыкновенно легко и как-то сразу привычно в этом доме, в этой семье, где не было для постороннего никаких тайн и недомолвок, где с первого взгляда было видно, как и чем здесь живут, где жизнь по временам казалась игрой, радующей потому, что она удается. Старшей в этой игре, конечно, была Тамара Александровна, жена газетчика, почти не бывавшего дома, привыкшая к своему полувдовству, к своим бесчисленным заботам и обязанностям. Младшим, несомненно, был Владимир Иванович; за этим увальнем все ухаживали, все его опекали и баловали.
Когда Одуванчик прочитал свой стихотворный тост, в котором срифмовал помолвку — плутовку и свадьбу — шайбу, Тамара Александровна поцеловала мужа, и то же сделали все девочки.
Тамара Александровна отправила детей спать и села рядом с мужем, прижавшись щекой к его плечу. Мужчины стали пить легкое кислое вино «потихоньку».
— Можно произнести тост в прозе? — сказал Степан. — Я хочу вместе с вами отпраздновать еще не меньше трех ваших двенадцатилетий!
— Присоединяюсь, — заявил Наумов.
— Что вы, что вы! — засмеялась Тамара Александровна. — Уже через двенадцать лет наши девочки станут совсем взрослыми, я, как все женщины в нашем роду, превращусь в дородную матрону, а Володя придет к доктору и скажет: «Доктор, жделайте мне жолотые жубки, я хочу еще раз отведать беляшей»… Подумать только, прошло двенадцать лет, дюжина! А как я боялась выходить за газетчика! Он казался мне непостоянным, беспечным. Казался? Он и был забулдыгой, богемой, поверьте мне, Киреев. В то время он много пил и предпочитал объясняться мне в любви, стоя на коленях в сугробе снега перед Большим театром… Я уехала к маме в деревню, на берег Волги под Казанью, бегала на этюды, задумала большое полотно «Плотогоны», старалась уверить себя, что между мною и Дробышевым все кончено, что я ему решительно отказала… И вдруг он появился в деревне франт франтом, в белом фланелевом костюме и в панаме, с кожаным чемоданчиком в руке… Привез три флакона французских духов. Вполне понятно, что в деревню надо возить только французские, безумно дорогие духи, не правда ли? В Москву мы ехали в отдельном купе, по пути Дробышев поил начальников станций шампанским и просил их не спешить с отправкой поезда. А что творилось возле нашего стола в вагоне-ресторане! Вы догадываетесь, чем все это кончилось? В Москве у Дробышева не хватило на извозчика, и мы шли через весь город пешком голодные, усталые, дурачились, хохотали, и городовые просили нас: «Господа, прошу не нарушать…» До сих пор не могу понять, зачем он привез в деревню дорогие духи и почему именно три флакона, а не пять, десять? Гнетущая тайна моей жизни…