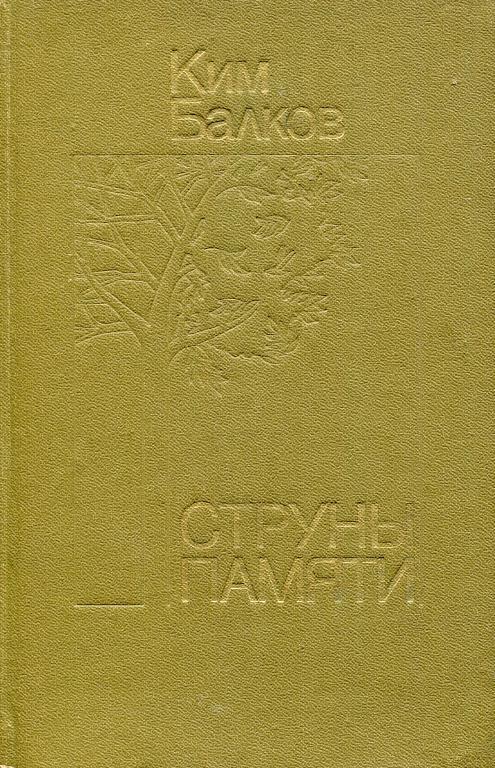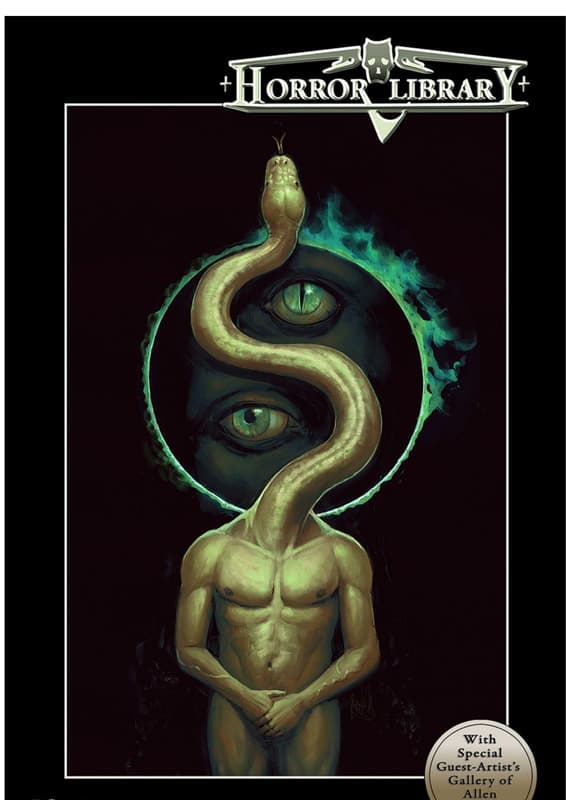бывает, принесет, и кусок сахару отколет… «Берите, детки, пользуйтесь. Я добрый…» Сестре это нравилось, а ему — нет… Говорил матери: «И чего он ходит-то? Чего ему надо-то?..»
Знать, было надо… Как-то играл во дворе, и тут подошел к нему кто-то из пацанов постарше, сказал; «А дядя Вася в отцы тебе метит!..» И заныло сердце, и злость такая… Хорошо, оттащили от пацана, а не то… Вечером дядя Вася пришел, улыбается в усы, а усы у него длинные, желтыми кольцами загибаются у рта. «Принимайте, — говорит, — Гостя…» И мать довольна, велит налить чаю. Отчего бы и не налить?.. Сбегал на кухню, нацедил из самовара, а подле самовара банка стояла с солью. Недолго мешкая, отсыпал в стакан и к дяде Васе: попробуй испей!.. Дядя Вася отхлебнул из стакана, и лицо у него сделалось кислое, и усы завяли. Мать спрашивает: что с тобой?.. А потом и сама, отпила из стакана, и сейчас же за пряжку… Дядя Вася мужик умный, надобно, говорит, поучить мальца, меня и то не баловали… Не плакал, нет, и глаза нехорошо блестели… Это потом, много лет спустя, мать говорила, что у него глаза тогда нехорошо блестели…
Было. И это тоже было… А теперь у самого дети и жена… Глянула на него и, судя по тому, как улыбнулся виновато и со смущением, поняла, что он весь там, в прошлом… Но он уже очнулся, сказал:
— Так я еду?..
Жена сходила на балкон, принесла хозяйственную сумку, открыла холодильник. Вчера была зарплата, и вечером они успели съездить на колхозный рынок.
— Зачем ты?
— Не мешай, Черных, — сказала жена. — Я знаю, что делаю.
И он не стал спорить. Он был уверен, что жена лучше знает, что надо, а чего не надо… Они жили вместе уже более двадцати лет, и все это время она умело справлялась с домашними делами и не жаловалась, что ей надоело стоять в очередях и бегать по городу с сумками.
Было без пяти девять, когда Черных приехал на вокзал. До отхода электрички оставалось десять минут. Черных отыскал скамейку, присел с краю, поставил подле себя сумку. Огляделся. Было сумрачно, и на старых плитах перрона тускло блестели лужи. Вот и тогда, много, теперь уже очень много, лет назад, было сумрачно, и в серых выбоинах асфальта стояли лужи. С утра мать сказала: «Нынче пойдем на вокзал встречать отца…» Но могла сказать и накануне, он с вечера приметил на столе солдатский треугольник и почему-то решил, что это от отца… Все еще не могла простить ему той шалости. Впрочем, была ли это шалость?.. Теперь он и не скажет даже… У дяди Васи зажигалка что надо: и белый стальной корпус посверкивает, и синий огонек тотчас же и выскочит, стоит только нажать вон на ту черную кнопочку. Не раз уж приглядывался к ней. Хороша!.. Пацаны говорят: трофейная… Вечерком улучил момент, когда дядя Вася, развалившись на кровати, задремал… А зажигалка на коленях у него, маленькая, так и посверкивает. Стоит только протянуть руку — и твоя… И протянул, чего ж?.. Небось не из тех, кто робеет. Да и нужна зажигалка. Очень. Был у них во дворе парень, вдруг понравилось ему угощать: то жмыху принесет, то ломоток хлеба… «Бери, Кеха, я не жадный…» А потом как-то говорит: «У дяди Васи зажигалка что надо. Достань!..» Пробовал отказаться, но тот и слушать не хочет. Верни, говорит, в таком случае все, что я давал тебе… А как вернешь, когда взять неоткуда?..
Утром дядя Вася хватился зажигалки, шум поднял на весь дом, потом говорит матери: «Хотел остаться у вас насовсем, но теперь уж не останусь. Не ребенок у тебя — звереныш какой-то, смотреть на него противно!»
Тут уж и мать рассердилась, вытолкала за порог: «Катись, миленочек! Чтоб духу твоего здесь не было!..» А когда Дядя Вася закрыл за собою дверь, принялась за сына. Ох, и досталось тогда ему!.. Но перетерпел и это. Понимал, что виноват. Зато и радовался, узнав наутро, что дядя Вася уехал из города. На север куда-то…
«Нынче пойдем на вокзал встречать отца…» А на дворе осень сорок шестого, и пацаны удивляются: «Подзадержался, Кеха, отец у тебя. С чего бы, а?..» Если бы знал, с чего…
Ближе к полудню пришла с работы мать, наскоро поели и поехали на вокзал. Долго ждали, когда придет поезд, все глаза проглядели… На перроне гуляет ветер, а он в одном пиджачке, продрог так, что зуб на зуб не попадет. Мать велит пойти в здание вокзала, погреться. А он ни в какую… И светло на сердце и томительно. «Интересно, какой у меня отец?.. Наверно, геройского виду, и не подойдешь к нему сразу?..» Но ничего, подошел… Может, потому и подошел сразу, что не было в том солдате, которого мать увидела издали, ничего такого… геройского… Солдат да солдат, и медали на груди, есть даже орден… И шагнул к нему солдат, и сказал негромко:
— Здравствуй, сынок!..
Долго привыкал к отцу: тот все больше сидит у окна и слова-то из него не вытянешь. Уж годы спустя узнал, что был отец тяжело ранен в последние дни войны, попал в госпиталь. И писать не захотел. Думал, не выживет. Но врачи поставили на ноги, сказали: езжай домой…
А раны на теле отца еще не скоро зажили. И спал он плохо, бывало, среди ночи поднимется с постели и ходит по комнате, ходит… И с памятью у него что-то… И скажет вдруг: «А пойдем-ка в роту. Небось командир заждался…» Случалось, и сына не узнавал, спрашивал: «Ты чей?» И потом долго смотрел на него.
А на перроне засуетились, заспешили… Черных увидел, что подошла электричка, поднялся со скамейки. Ему повезло. Оказавшись в вагоне, отыскал себе место, да еще возле окошка. Затолкал сумку под скамейку, огляделся… В вагоне было много народу, все больше парни с горбовиками да молодые женщины с кошелками. Черных вспомнил, что и он с женою собирался в субботу съездить в низовье реки: места там чудные, есть и брусника… Не часто случается бывать, за городом. Все дела, дела… Но, уж если случается, тут-то и забывает обо всем, готов с утра до ночи, не зная усталости, ходить по лесу. «И откуда в тебе столько прыти?..» — бывало, смеясь, спрашивала жена. И он тоже смеялся, и отвечал: «Не забывай, что я из деревни…» Черных вздохнул, глянул в окошко. Шел дождь, и серые плиты перрона словно бы ожили, зашевелились… «А