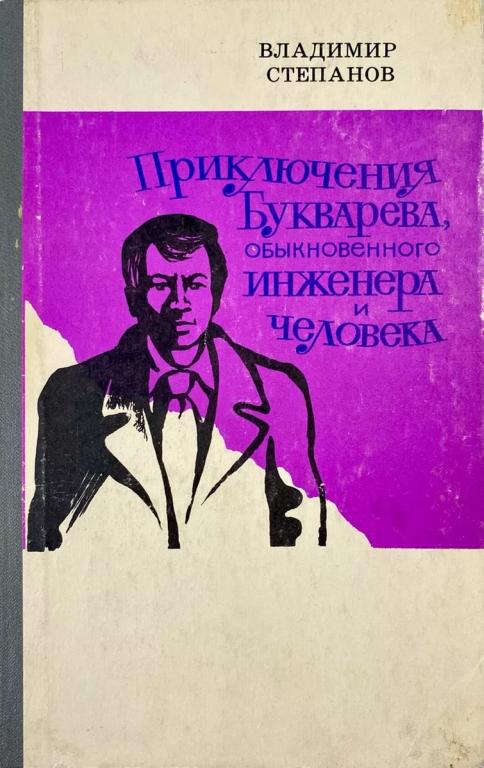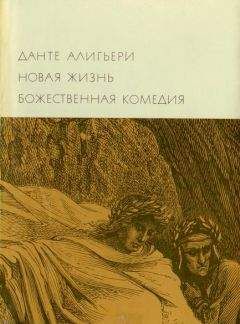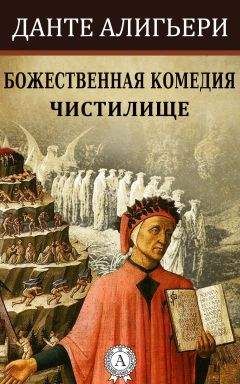этого?
— Будь она моей дочерью, я бы выдрал ее, как сидорову козу! — оскорбленно содрогаясь, выговорил Букварев.
— А я вот люблю. Но… мне можно. Я же поэт, платоник!
— Я не хочу на эту тему говорить. Не заводи о ней никаких разговоров. Бери ее себе в помощницы, поскольку она плановик-экономист. Считать должна уметь. Насчет оклада ей поговорю с Грачевым. И постарайся делать так, чтобы на глаза она мне попадалась пореже. Упаси бог, если придет она еще раз вот этак за посудой. Я в нее грязные тарелки пошвыряю! И сам сбегу!
— Слушаюсь, товарищ начальник! — сказал Заметкин и тут же добавил: — хотя я и советовал бы тебе сменить несправедливый гнев на мудрую милость. Ты же старше и умнее ее.
Они долго курили и молчали. При этом Букварев стоял к другу спиной и глядел в окно. А Заметкин сидел на старом месте и рассматривал обои.
— А теперь послушай, отчего она так спешно собралась сюда, — начал Заметкин.
— Не же-ла-ю!
— Речь пойдет не про нее одну. Тут Губин больше всего замешан со своей взбалмошной Музой и еще небезызвестная тебе Аркадия.
— Что же мене ними стряслось?
— То-то! Отключи свое драгоценное внимание от дел производственных на дела житейские минут на пять, ибо эти дела прямо влияют друг на друга и пренебрегать нельзя ни теми ни другими. Учти еще, что и твоя редкая фамилия звучала в событиях вчерашнего вечера. А события-то развивались в ресторане!
— Я-то здесь при чем, если в ресторане?.. Я же и вчера вечером был здесь, в сопках.
— Неважно. Вспоминают же каждые сутки в разных уголках земли например, Наполеона, хоть он нигде уж не присутствует!
— Ну и мастер ты загибать!
— А теперь попытайся живо рисовать своим мощным воображением все то, о чем я буду рассказывать. В телеграфном изложении все происходило и развивалось приблизительно так: …Заняв кресло своего прославленного друга Букварева, Георгий Губин облачился в новый костюм, которого на нем никто еще не видел. Черная тройка с белой полоской, немнущаяся, блестящая, с ворсом. Рябо-красный верноподданнический галстук с искрой, белоснежная, с кремовой полоской, сорочка, золотые запонки с чернью. Шик! Плюс повышенная значительность выражения лица и великосветские манеры.
Но таким он был только на службе! Натура его осталась по-прежнему жизнедеятельной, и ему частенько хотелось позубоскалить, посплетничать, «поиздеваться» над кем-нибудь в «своем кругу». На протяжении многих лет объектом для этого был Букварев, но он уехал совершать подвиг, Губин начал томиться и после недолгих раздумий решил избрать себе в партнеры полузабытого друга Заметкина.
Губину везло. Уже через два дня после отъезда Букварева в суровые края, он получил на двоих с Воробьихинским какую-то выдающуюся премию, и руки у него зачесались, а в голове появились мысли и предложения.
— Привет, блеск и нищета литературы! — великодушно произнес он, возникая на пороге скромного обиталища поэта Заметкина.
— Здравствуй, Подлюга, — ответил Заметкин.
— Не лайся и брось фраерить, — без обиды сказал Губин. — У меня лишние рупии. Есть смысл закатиться с ними в ресторацию. Ты ведь голодный?
— Пошли, — согласился Заметкин, жадный на впечатления и действительно голодный в тот момент.
По дороге, а ехали они, конечно, на служебной шоколадной «Волге», Губин поиздевался над героическим поступком своего товарища Букварева, но Заметкин уловил в этом «издевательстве» долю грусти. Губин клялся крепко помочь другу и тем самым стать вровень с ним в героических свершениях, а может, и обскакать его, сделать своим должником.
— Сейчас появятся дамы, — с наигранным равнодушием сообщил он Заметкину, когда они уселись за столик лучшего в городе ресторана «Север». — Я с утра на четыре персоны этот столик заказал. Проматывать деньги без дам — бездарно!
Заметкин сообразил, что столик выбран или поставлен специально для интимной встречи в самом дальнем углу зала и был почти полностью закрыт от посторонних глаз четырехгранной колонной с песочной инкрустацией и широколистой декоративной пальмой в пузатой деревянной бочке.
Дамы не заставили себя ждать. Счастливо улыбаясь и мелко семеня туфельками, они уже пробирались к столику.
Та, что помоложе, была в скромном сиреневом платье, и самым привлекательным в ней были глаза, огромные, переливчато-зеленые, всевидящие, умные и ускользающие. Ничего другого Заметкин якобы в ней не разглядел. Вторая дама отличалась отменным ростом, средней упитанностью и изысканным туалетом. Из ее прозрачной кружевной кофты так и валились тяжелые, как ядра, груди, прикрытые фальшивыми драгоценностями. Она беспрерывно «делала» кавалерам густо подкрашенные глаза и болтала. Впрочем, обе дамы чувствовали себя вполне свободно, с первого приглашения пили и ели, причем немало.
Губин обвораживал всех. Он изощрялся и блистал остроумием, хотя и несколько плоским, но очень нравящимся рослой даме. Он на каждом шагу проявлял великодушие и щедрость. Вечер проходил на высочайшем провинциальном уровне. Заметкин тоже пытался вставить словцо, и дамы из вежливости хотели поддерживать контакт с ним, но Губин тут же прерывал их, поднося к их ртам на вилочке особо лакомые кусочки. Особенно обхаживал он миниатюрную Надю, хотя реагировал на все реплики и движения и могучей Аркадии.
Шло время. Коньяк и шампанское были выпиты, изысканные закуски съедены, новейшие танцы отплясаны. Наступила минута насыщения и закономерно следующие за ней минуты удовлетворения и изнеможения. И тут Губин шепнул Заметкину на ухо:
— Старик, я дохожу до труфелей.
Кому другому, а однокашникам Губина известно, что означало в его устах это выражение. Произнесши роковое слово «труфеля», Губин с шиком заказывал с полпуда самых дорогих конфет, щедро одаривал ими дам и официанток, ел сам. Остатки отдавал в буфет в обмен на увесистый пакет со спиртным и съестным и вместе с ним увлекал избранную на этот вечер даму в определенное секретное место.
— Валяй! — не возражал Заметкин, но ему не нравилось, что избранной дамой в этот вечер Губин явно считал глазастую маленькую Надю.
Когда вновь ударил оркестр, может быть, уже в последний раз, Заметкин, опередив друга, увлек Надю в круг. Танцуя, он прозрачно намекал ей на предстоящую