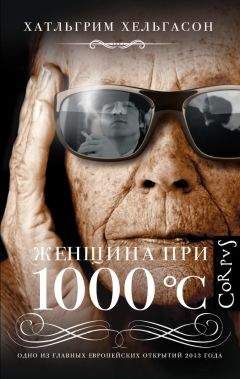«Прадедушка с прабабушкой потеряли свое поместье в первую прусскую войну, но затем снова выкупили его за восемнадцать итальянских жемчужин-маток. Бабушка откупилась четырьмя во франко-прусскую войну. В первую мировую отец спас семью, купив повозку и двух коней за двадцать жемчужин из того ожерелья. А в эту войну мы уже жили на то, что осталось. Тринадцать штук я отдал за то, чтоб меня подвезли на машине от Лодзи до Варшавы, и никогда еще эти дочери Казановы так дешево не стоили. Две я заплатил за кров для шестнадцати человек в подвале посольства, четыре ушли за целую свиную тушу, одна – за теплое пальто для моей Анны… и так далее, посмотрите…»
И он вынул из кармана ветхую нитку, на которой висели две потертые жемчужины.
«…у меня осталось две. Две жемчужины осталось на ожерелье Казановы».
Он пристально посмотрел нам в глаза: мне и веснушчатой четырнадцатилетней девчонке, затем снял жемчужины с нитки, положил в свою ладонь. Крошечные радуги окаймляли серовато-белые шарики размером с малюсенькие конфетки; казалось, они покрывают поверхность жемчужин, словно чудесный узор в вышивке стихоальвов. Вдали с небес падали бомбы.
«А теперь я дам каждой из вас по жемчужинке».
Его не остановили наши отчаянные протесты. Он сказал, что потерял во время налетов русской авиации полсемьи, а до второй половины ему дела не было; он считал, что будет лучше, если историческое скоровище попадет «в руки будущего».
И вот я сижу здесь, на берегах Одера, и смотрю за реку, а руки у меня в карманах. Одна сжимает гранату, другая – жемчужину.
Папа раньше никогда не видел, чтоб война шла с такой быстротой. Наступление в Польшу так хорошо удавалось, что они целые дни проводили на бегу. Часто линия фронта сдвигалась на сто киолметров в день. Бой принимали почти с радостью: хоть во время битвы не надо было никуда бежать. Рядовые лежали в наскоро вырытых в снегу ямах, пока артиллерии обменивались вспышками. Под городом Белосток, где спала в берлоге Ягина, папа подвергся опасности: по его каске ударил осколок танковой гусеницы. Черный дым плыл над белым полем.
И вновь бег: в полной амуниции, с винтовкой и вещмешком за спиной под конец пожилой боец снова отстал. Он отбился от своей части и две недели бродил по зимне-зеленому лесу с четырьмя товарищами, охромевшими и израненными, и стреляли они там разве что косуль и зайцев.
«Там я познакомился с Дмитрием Годуновым, который много лет спустя приехал в Исландию, и про которого даже написали в газете „Тьоудвильинн“[278] статью: „Советский герой войны в Рейкьявике!“ В своем интервью он вспомнил меня, но они это вычеркнули. Ведь с их точки зрения в Красной армии не могло быть никаких „фашистов“. По всей видимости, это были мои лучшие минуты в военное время, если слово „лучший“ вообще уместно на войне. Я немножко научился говорить по-русски. Честно признаться, это напоминало летний отпуск, хотя была еще только середина марта. Дмитрий был низкорослый и подвижный, справедливый и сильный, но его ранило в ногу осколком, и рана воспалилась. Он был мастер на все руки: стоило ему присесть, как он уже успевал выстругать черпак или сковородник, чтоб готовить на костре».
Тут исландскому бойцу стало понятно, – пока он сидел со своими новыми товарищами у тлеющего костерка, – что слова «коммунист» и «фашист» никогда не находили дороги в этот лес.
Наконец они вышли из хвойной чащи на открытое пространство, где разместились воинские части. Возле серо-бурых палаток стояли усатые офицеры и курили трубки – над всей местностью царило удивительное спокойствие. В мокром сугробе лежала павшая лошадь, а возле нее продрогшие солдаты отрезали себе куски от задних ног и жевали. Чем ближе, тем явственнее ощущался смрад, какой прежде не обонял человеческий нос. И все же это был какой-то вид запаха гари: он лежал над палатками, как невидимый туман. Недалеко от них, к северу, из развалин поднимался белый дымок. Вокруг них стояли группами солдаты, большинство – спиной к палаткам: горело явно что-то необычное.
Ганс Биос, Дмитрий Годунов и их товарищи вошли, поздоровались с товарищами-солдатами, а потом их молчание и взгляды проводили их до дымящихся развалин. Чем ближе, тем сильнее возрастали смрад и жар. Сквозь дым они различали человеческие ноги, руки, головы, голые тела.
Их взорам предстала братская могила, широкая, как Поле Молодых Юношей, до отказа набитая мертвыми телами; тела лежали в пять слоев, а между ними, при большом жаре, потрескивал огонь. Было невозможно подойти к этой могиле, не закрывая лица. Мертвые тела все были кожа да кости, по временам в костре потрескивало, как в камине, где горит хворост. «Пузырь или нарыв, – объяснил Дмитрий, словно многоопытный путешественник по кругам ада. – Что тут происходит? Кто это – немецкие военнопленные?»
«Нет, заключенные из концлагеря, – ответил чернобровый казак, сжимавший алыми губами белоснежную неказистую сигарету. – Который был вон там», – он указал на развалины вдали, к западу от могилы.
«Треблинка».
Папа посмотрел вокруг себя, на лица русских солдат. Их выражение было невозможно описать. Молодые парни и зрелые мужчины стояли, как загипнотизированные, и глядели в разверстое сердце войны, в черную пропасть человечества. Взгляд папы упал на труп беременной женщины в верхнем слое. Живот был раздутый, с гладкой кожей, в противоположность тощим телам вокруг. Папа стоял не шелохнувшись, не помня себя, не в силах отвести глаз от этого пуза. Как будто жизнь покидала его, а смерть подбиралась к нему. Жизнь моего отца достигла половины, и теперь в ней был трехминутный антракт. Очнулся он только тогда, когда беременный живот треснул от жара с неслышимым звуком.
В трещине показался полностью развившийся зародыш, алый, и прожил миг, прежде чем жар вычернил его, будто жаркое.
Папа отвернулся и, как зачарованный, пошел прочь от могилы. Но ему так и не удалось уйти от нее. Этот запах преследовал его всю жизнь и прочно связался в его сознании с хвойными деревьями.
«Странно, но я бросил взгляд на горизонт, поверх зеленых вершин, и вдруг ощутил угрызения совести по отношению к этим зеленым деревьям. Мы, люди, поставили на истории черное пятно, мы оскорбили эти добрые деревья этой вонью и этими злодеяниями, на которые никто не должен был смотреть. Да, как ни странно, мне стало стыдно перед природой».
В 1979 году Окружной суд приговорил папу к штрафу за то, что он срубил две высокие ели на границе сада по улице Скотхусвег, и ему пришлось выложить на стол полмиллиона крон. Исландский Нюрнбергский процесс…
148
Jeder für sich[279]
1945
Порой я с интересом рассматривала собственные ноги и восхищалась: какие они упорные да работящие! Как будто они принадлежат другому, более неутомимому, человеку. Я звала их «Нонни и Манни[280]». Они были дружные братья, а если между ними и пробегала кошка, то только в буквальном смысле, а не в фигуральном.
Но как бы долго мы ни шли, грохот войны за спиной не становился тише. Мы считали, что убегаем от него, но скорее, мы сами тащили его за собой, словно железнотяжелый чернодымный вагон. Река Одер оказалась не помехой. Дорожные указатели обещали Берлин за ближайшим лесом, ближайшим холмом. Мы спали на сеновалах, на брошенных хуторах. Порой в ящике находились картофелины, на лавке – ржаная корка, но чаще на ужин были рассказы об удачливых беженцах, которые набрели на полное еды поместье. Я нашла шмат сливочного масла на трупе женщины у обочины и спрятала под одеждой; его мне хватило на неделю.
Сошли снега, и на дорогах стало еще больше беженцев: пруссы, поляки, немцы, даже поволжские немцы и представители других народов. Тысячи людей месили грязь по дорогам, раскисшим в распутицу, мимо брошенных танков и наполненных водой воронок от снарядов, будто молчаливые усталые ветхозаветные фигуры – с той разницей, что здесь не было Бога, наблюдавшего за ними из-за туч.
Порой у обочины появлялись деревья: они стояли там длинными рядами и смотрели, как мы тянемся в сторону заката, который был иногда красив, но всегда печален. Однажды утром нам навстречу попалась вереница русских детей, и лица у них были такие, как будто они видели собственную смерть. На следующий день на восток устремились десятки советских женщин, и нам пришлось отступить на обочину, чтобы пропустить этот поток. Они шли пешком, большинству из них было лет тридцать или больше. Их хмурые лица проплывали мимо, как в немом кино. Одна из них плюнула на немецкого мужика в наших рядах. Неужели война закончилась? Некоторые из них были беременны и несли в свою Белоруссию эти немецкие плоды, которые в итоге оказались единственными «завоеваниями» немцев на восточном фронте, если их, конечно, не утопили сразу после рождения.