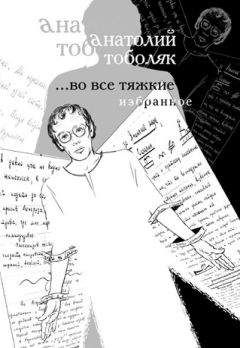— А ты уже оповестила всю редакцию?
— За кого ты меня принимаешь! — возмущенно выкрикивает она.
— Ладно, Вика, ладно… не сердись, — тяжело извиняюсь. И чтобы прервать разговор, принимаюсь стучать на машинке. Получается: ЯХНИНЯХНИНЯХНИНЯХНИНЯХНИН… две строчки бредового повтора. Тут же вынимаю лист из каретки, рву на мелкие клочки и выбрасываю в урну. Закуриваю — какую по счету?
— Дай огонька, — просит Радунская, подходя со своей сигаретой. — Господи! — поражается она. — Как у тебя руки дрожат! Пил вчера?
— Да.
Руки действительно дрожат. И скулы свело, как судорогой. И желудок воет. И глаза жжет, точно их присыпали табаком. Ночь была бессонная, а китайский спирт — не лучший напиток. Сегодня вряд ли придется спать.
— Шел бы ты домой, Андрей, — жалеет меня Радунская. Вдруг я хватаю ее за руку, притягиваю к себе.
— Ого! — удивляется Радунская. — Как понять?
— Пошли ко мне сегодня. Посмотришь, как живу, — вырывается у меня.
— Наконец-то. Соизволил пригласить.
— Пойдешь?
— Не сейчас же!
— Нет, после работы.
— И в каком качестве ты меня приглашаешь? Как медсестру?
— Как верного товарища, — изображаю я улыбку.
— Ох, нахал!
— Я, может быть, люблю тебя, Радунская, но сам того не осознаю.
— Ах нахалище! — ослепительно смеется она.
— Ну, наклонись, поцелую.
— Сам поднимись.
Она мне нужна сегодня ночью, ибо я боюсь сегодняшней одинокой ночи, концентрации всех предыдущих одиноких ночей, более страшной, чем все предыдущие. А вот от Радунской исходит какое-то доброе тепло, какая-то нежная жалость… Спасибо, Вика.
* * *
Высиживаю в редакции до пяти часов, с мутью в голове правя какую-то многословную статью, а едва Радунская куда-то выходит, опять звоню в фирму «Пента». Секретарша на месте, я сразу узнаю ее голосок.
— Опять беспокоит Кумиров. Могу поговорить с Игорем Ивановичем?
— А, это вы! — откликается. — Знаете, а его так и не было еще.
— И сегодня, вероятно, уже не будет?
— Да, пожалуй. Вообще-то странно. У него было намечено несколько важных встреч. В крайнем случае должен был предупредить.
— А если позвонить домой?
— Вы думаете, я не звонила?
— Но завтра-то он будет?
— Ну, надо полагать, объявится. А вы, собственно, по какому делу?
— По личному, — и заставляю себя игриво спросить: — А как вас зовут, девушка? У вас такой приятный голос.
— Юля. А вас?
— Меня — Андрей. Могу поспорить, что вы высокая красивая блондинка. Угадал?
— Мимо! — смеется она.
— Ну, тогда высокая красивая брюнетка. Вам 22 или 23. Вы не замужем. Любите шампанское. Все правильно?
— Ну более или менее, — опять смеется.
— Рад буду с вами познакомиться.
— Что ж… приходите. Интересно увидеть человека по фамилии Кумиров.
Разъединяемся. Положив трубку, я сижу неподвижно, глядя в окно на широкий проспект, по которому скользят машины. Опять моросит мелкий дождь, а по небу ползут нелетные сырые тучи. Неужели не видать уже никогда ясного голубого неба? Сегодняшнее спасение…
* * *
…сегодняшнее спасение — это Вика Радунская. Она осматривает мою убогую квартиру, переходя из комнаты на кухню, заглядывая даже в ванную, точь-в-точь как кошка, оценивающая новое жилье. Вздыхает, зябко ежится, опять горестно вздыхает.
— Ну, ладно, — говорю я. — Хватит тебе. Чего ты ждала от малоимущего? Садись за стол. Будем пировать.
Кумиров позволил себе сегодня шикарный ужин. Консервированный лосось, копченая сайра, колбаса, водка «Распутин», индийский чай, китайское сухое печенье. После первых рюмок темень, в которую погружен, слегка рассеивается, как при робком рассвете, а Вика Радунская, и без того бессмертно соблазнительная, вдруг обретает особый смех, особый горловой голос, ведьмаческий какой-то блеск глаз… Она уже пьяна, и я веду ее в нашу спальню и укладываю, подлюга, на святую нашу семейную кровать.
* * *
Еще два года назад полноценный, независимый Кумиров предложил бы этой неробкой девице богатый выбор постельных упражнений. А сейчас действую как будто с закрытыми глазами, подчиняясь стереотипам, не прося многого и давая лишь самое необходимое. Но нежно и бережно, неосознанно нежно и бережно — и она это, видимо, чувствует и благодарно, взахлеб целует. Потом лежим, отдыхая в темноте. Я прижимаюсь к Радунской, как ребенок, ни на секунду не отпускаю, и это ее по-новому поражает:
— Слушай, Кумиров, что с тобой? Может, ты и вправду меня любишь?
Не отвечаю. Еще крепче прижимаюсь.
— Я тебя совсем другим представляла в постели. Злым, агрессивным.
Молчу. Не отпускаю.
— Ты со всеми женщинами такой или только со мной?
Молчу. Льну к ней, как напуганное дитя к своей матери.
— Я думала, ты извращенный мальчуган, а ты… Ну, подожди. Ну, отпусти. Хочу закурить.
— Ты не уйдешь? — спрашиваю.
— А ты хочешь, чтобы я осталась до утра?
— Да.
— Господи, ничего не пойму, — недоумевает Радунская.
Она остается на всю ночь. Вскоре, утомленная, засыпает. А я лежу, глядя в темноту. Курю. Изредка встаю и выпиваю на кухне рюмку водки. Включаю настольную лампу и пробую читать. Но это безнадежно, ибо со страниц книги всплывает все, что угодно, кроме истинного смысла текста. Гашу свет. Сворачиваюсь клубком, сунув голову под мышку спящей Радунской, хочу стать нерожденным еще плодом без мыслей и чувств. Не знаю, когда приходит сон. А просыпаюсь с ужасом на душе, с тяжело тукающим сердцем.
За окном светло. Будильник показывает 10 часов. Радунской рядом нет. Нет и ее одежды. На журнальном столике записка: «Милый Кумирчик, спасибо за гостеприимство. До встречи на службе. Целую. Вика».
* * *
«Целую. Оля». — Так заканчивается письмо от жены, которое я нахожу в почтовом ящике. И второе письмо из Орла повторяет эхом: «Целую. Мама».
* * *
Сегодня, следовательно, шестнадцатое июня. Через полтора месяца мне исполнится двадцать девять лет. Дата незначительная, всенародного праздника по этому поводу не будет.
Дождя нет, но нет и солнца, покинувшего, кажется, навсегда наши края. И нет на газонах одуванчиков, тоже сгинувших, кажется, навсегда.
Из будки телефона-автомата я звоню в фирму «Пента». Она вроде бы стала моей судьбой, внезапно прорезавшейся новой линией на ладони. Но по моему голосу секретарша Юля вряд ли догадается о моих мыслях и чувствах. Ибо я говорю бодро и весело, как и полагается в первой половине дня.
— Ну что, Юля? Появился, наконец, ваш шеф?
— Вы представляете, — отвечает она, сразу узнавая меня, — все еще нет.
— И не звонил?
— И не звонил.
— А вы ему звонили?
— Конечно. Много раз. Но квартира молчит. Мы уже тут всерьез беспокоимся.
— А не мог он куда-нибудь внезапно уехать или улететь?
— Не поставив нас в известность? Что вы!
— Ну, тогда… тогда одно остается, — намекаю я.
— Что? Вы думаете, загулял?
— Насколько я знаю Игоря Ивановича, это не исключено.
— Конечно! Он не ангел, — смеется она. — Иногда бывает, что дает себе волю. Но в таких случаях он непременно звонит. Даже чаще, чем нужно, — опять смеется. — А что, у вас важное дело?
— Да как сказать… Я еще вчера должен был отдать ему небольшой должок. Не знаю, как и быть. Может, через вас передать?
— Ну, можно и через меня, но лучше, конечно… Подождите минуточку! — просит она и, не кладя трубку, разговаривает с кем-то. А затем снова мне: — Ну вот. Шофер только что вернулся с квартиры. Там никто не отвечает.
Небольшая пауза. Затем я говорю:
— Сделаем так, Юля. Под вечер еще перезвоню вам, хорошо?
— Ну, пожалуйста.
— А вы, Юля, сегодня так же неотразимы, как и вчера? — спрашиваю я. И она, конечно, заливисто смеется.
* * *
Я еду на службу, где получаю разнос от шефа, который засек мое крупное опоздание, а затем как компенсацию — свежий, душистый поцелуй свежей, сияющей Вики Радунской. Господь, ты все видишь: я не хотел ее соблазнять…
* * *
Ты видишь, Господь, как в этот же вечер, уже в нерабочие часы, бравые ребята из фирмы «Пента» взламывают дверь в квартиру Яхнина.
* * *
Я узнаю об этом в среду утром, позвонив из своего кабинета в приемную «Пенты». Нежный голосок секретарши Юли на этот раз неузнаваем. Он полон ужаса.
— Его убили!! — визжит она в ответ на мой вопрос, нашелся ли Игорь Иванович. Кричит так громко, что даже Радунская, невдалеке сидящая, слышит и мгновенно перестает печатать на машинке.
Я вскакиваю на ноги, потрясенный.
— Что-о? — кричу и я.
— Убили… убили прямо в квартире! — заходится в визге секретарша. Она, похоже, только что узнала об этой трагедии.
— Не может быть… — бормочу я и, по-видимому, сильно бледнею.