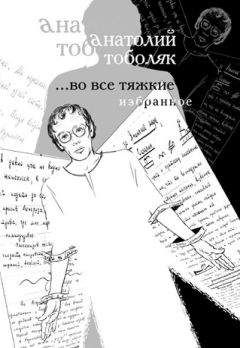— Что?
— А то, что я могу раздеть тебя догола, если захочу. Сделать тебя вечным своим галерником. И очень просто, старичок. Возьму твои жалкие копейки, дам отсрочку еще на месяц и закачу сто пятьдесят процентов с основной суммы. Соображаешь? — по-простецки вопрошает он.
— Соображаю.
— А зачем мне, Кумир, насиловать однокашника? Зачем, а? Поэтому ты уж поднапрягись и пятнадцатого в двенадцать ноль-ноль по местному, будь добр, выложи всю сумму целиком, ладно?
— Пятнадцатого вряд ли смогу, Молва, — глухо отвечаю я.
— Андрюха, старичок, не огорчай меня. Смоги. Не заставляй меня прибегать к помощи своих нукеров. Они ребята жестокие, неинтеллектуальные. Понимаешь?
— Понимаю, Молва. Но ты мне скажи: неужели тебе так крайне нужна эта сумма? Обанкротишься без нее?
— А вот это, извини, не твоего ума дело, старичок. Башли, конечно, смешные, но ты их верни. А там видно будет. Может, мы их совместно пропьем.
Неужели в ответ мой голос дрогнул, дал слабину, унизился до мольбы?
— Еще месяц, Молва, на таких же условиях, и я выкручусь.
— Нет, старичок, нет. Завязано. Через пять дней жду. Гульнем.
— Гад ты все-таки, Молва! — ненавистно вырывается у меня.
— А вот это, Кумир, ты зря. Обижаешь. Не люблю.
— Видит Бог, когда-нибудь тебя зарежут, Молва. Твои же коллеги.
Он залился молодым, здоровым смехом.
— Ох, старичок, развеселил! Знал бы ты, в каких переделках я побывал, тебе, гуманоиду, и не снилось! Правда, глоток никому не резал, но вертеться приходится, старичок, ох, приходится! В ломбарде был? — внезапно спросил он.
— На кой хрен мне там бывать?
— А там башли дают, старичок, ты разве не знаешь? Заложи свое золотишко.
— Какое золотишко?
— Ну, обручальные кольца, к примеру, то-се.
— Нет у нас в доме золота. И бриллиантов тоже.
— Ну-у, старичок, это ты уж совсем того… как твоя жена терпит такую жизнь? Гляди, можешь потерять ее… Продай что-нибудь из меблишки.
— Нет у нас меблишки. Тахта, стол, шкаф.
— Ну, телевизор, ну, видик. Что-нибудь есть у тебя… твою мать, писатель хренов! — разъяренно вдруг орет Яхнин.
— Ладно, падла, не трудись подсказывать! — ответно ору и я с красной мутью в глазах. — Получишь свои башли, сука, даже если детские игрушки придется продать, понял?
— Вот это разговор, — внезапно примерно произносит он. — Теперь узнаю старого кореша Кумира. А то разнылся, рассопливился, как девка при течке. Жду, родной, жду пятнадцатого, — собирается положить трубку.
— Эй! — окликаю я. — Погоди!
— Чего еще, старичок? Закругляйся. Спешу. Делишки.
— А если, скажем, так… — Я вдруг начал заикаться. — Если я… в порядке компенсации… устрою для тебя рекламную статью в газете? Расскажу, как ты взобрался на Олимп, какой ты талантливый коммерсант… как?
Яхнин некоторое время размышляет. Затем слышу его задумчивый голос:
— А ты, старичок, оказывается, можешь быть продажным. Нет, Кумир, исключено. Избегаю особой гласности, я тебе говорил. Принцип такой. Ты со мной незнаком. Я тебя не знаю. Никаких дел между нами нет. Все шито-крыто. Усек?
— Усек, Молва, усек, — внезапно обессилел я. И долго сижу потом, положив трубку, мертво глядя прямо перед собой, и по вискам текут струйки пота.
* * *
…и в субботний день, ранним утром, первым автобусом еду на «Семеновку», как называют у нас по фамилии градоначальника вольную барахолку. Я здесь еще ни разу не бывал, ибо что мне тут делать, в этом средоточии денежных страстей, в этом раю-аду частного предпринимательства, где множественные нули — вот такие: 00000 — 000000, как нимбы, светятся над головами продавцов и покупателей, — в этом жизненном пространстве, диком, бесконтрольном, с жаркой и яркой атмосферой наживы?.. И я поражен многолюдьем «Семеновки». Я поражен протяженностью ее торговых рядов. Под серым, облачным небом поражают меня разноцветье и изобилие товаров. Откуда, из какого мрака появились и размножились многоликие разноплеменные торговцы, из каких глубин света появились? В какую плодотворную ночь возник этот космический посев? Кто все это придумал и осуществил? Автора сюда! — надо бы крикнуть. Нобелевку надо присудить тому, кто породил эту «Семеновку»! А может, эшафота и гильотины заслуживает? Здесь правит вольная воля, свободомыслие, мной любимое, но почему я сам жалок и растерян на этом празднике? Я напуган. Страшно мне, жутковато. Озираюсь в густой толпе и никак не решусь вынуть из сумки свой ничтожный в сущности товар — подержанную портативную машинку «Омега». Никогда ничем не торговал — вот беда. Опыта нет. Стыдно мне — вот беда, хотя и понимаю, что в пределах «Семеновки» это чувство — атавизм, вроде аппендикса, — которое всеми здешними постояльцами успешно оперировано. Ну, давай, ты!.. — мысленно матерю себя и иду вдоль ряда, заставленного импортной супертехникой. Игровые компьютеры — китайские, японские, американские, видики, кассеты и диски…. Кумиров не разбирается в этих чудесах. Он человек каменного века, где в обиходе книга, и только книга, и еще журналы, и еще элементарная копеечная ручка, листы бумаги, ну и самое сложнейшее устройство — пишущая машинка. Но я прицениваюсь: почем это? а это почем? — и уже вскоре голова кружится от нулей, как от какой-то сильной наркотической одури. «Ну, давай, предлагай!» — матерю я себя. А как это реально сделать? Свободных мест в рядах нет, приткнуться негде. Не орать же громким голосом бывалого зазывалы: «А кому пишущая машинка? Почти новая! В полной исправности! Сама сочиняет, сама печатает, сама гонорар начисляет! Налетай — подешевело!»
Дышу я почему-то как астматик: тяжело, со свистом. Легкие мои не принимают, что ли, этот особый воздух толкучки, непривычно насыщенный то ли кислородом, то ли углекислым газом? Другая планета, Кумиров, другая. На такой ты еще не живал. Слабо тебе, Кумиров, тягаться с этими бравыми ребятами, которые смело и гордо носят на груди призывы «Куплю доллары!!», «Куплю иены!!», «Куплю ваучеры!!». Закрой глаза, Ольга, не гляди на своего родного мужа. И тебе, малышка, лучше сейчас не видеть своего отца, жалкого и ничтожного, нищего среди богатых, твоего верного ночного сказителя и колыбельщика. Такой не любви достоин, а презрения. Прав друг Яхнин, поблевывая при разговоре с однокашником. Надо быть полноценным кретином, Кумир… образцовым олигофреном, чтобы сейчас ходить в таких отрепьях, как ты, побираться, держать семью на голодном пайке — при нынешних-то возможностях, в пору всеобщего захлеба «лимонами», витающими в воздухе.
С этой мыслью я застываю перед молодым веселым торговцем, курящим длинную сигарету. Вероятно, лицо у меня искаженное. И он удивленно помаргивает:
— Чего, друг? Компьютер нужен?
— Нет.
— А чего надо?
— Ничего. Сам хочу продать.
— А что у тебя?
— Пишущая машинка. Импортная, подержанная. (Зачем сказал — подержанная, кретин?)
— А ну-ка, покажи, — по-деловому говорит он. И я расстегиваю сумку и под взглядом других продавцов-соседей вынимаю и ставлю на прилавок свое сокровище, свою единственную драгоценную подружку, с таким чувством, словно верную домашнюю собаку предаю.
Он снимает крышку, разглядывает, другие тоже.
— Старая, — сразу разочаровывается он.
— Надежная. Безотказная.
— Чья?
— Югославская.
— А паспорт на нее есть?
— Нет.
— И сколько просишь? — бьет он пальцем по клавише. В машинку предусмотрительно вставлен мной чистый лист.
Вот он вопрос, которого боюсь…
— А сколько дашь? — ожесточенно переспрашиваю.
— Да мне вообще-то не нужна. Кому надо, парни? — обращается к сотоварищам по ряду.
— Двадцать пять штук, — называю я трудную цифру.
— Ты смеешься, мужик. Вот компьютер игровой новый отдаю за тридцать.
— Ладно, — сразу сбавляю я цену. — Двадцать. (Кретин, кретин!)
— А она на ходу? — спрашивает джинсовый золотозубый кореец.
— Проверь, — сиплю я. — Работает, как часы. И, мучаясь, смотрю, как он неумело тюкает пальцем по клавишам, двигает кареткой, издевается, гад, над моей любимицей, насилует ее на моих глазах. И спрашивает ведь гад, как о живом существе, каковым она для меня и является.
— Сколько ей лет?
— Пять, — срывается у меня. (О придурок, придурок!) Надо было сказать: год-два. Ведь она хорошо еще выглядит, моя «Омегушка», на старушку не похожа… но придурок, независимо от меня, честно поправляется: — Чуть больше пяти.
У золотозубого корейца остро вспыхивают глаза.
— За пять штук возьму, — предлагает он.
— Красная цена, — дружно соглашаются с ним его коллеги, все в джинсе и коже.
— Ты мне бутылку еще за нее предложи, — злобно реагирую я.
— Гляди! Больше никто не даст. Это же утиль.
— Сам ты утиль, дружище.
— Ну, двигай дальше, походи, убедись, — бьет он в последний раз по клавише и закрывает крышку. И все сразу теряют интерес ко мне и моей «Омеге», точно мы на их глазах поблекли, померкли, выпали в осадок. И я слышу, кажется, заливистый смех Яхнина и его вскрики: