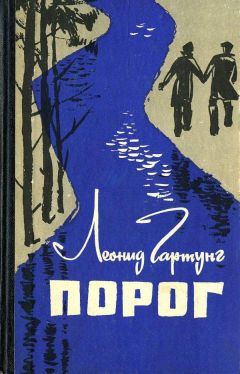Ребенок умер вместе с ней, не родившись. Кем он был бы сейчас?
Хмелев спрашивает Тоню:
— Что сказал вам Евский?
Тоне неприятен этот вопрос. Она отвечает кратко:
— Все не так.
— Все не так? А вы как думаете? Так или не так?
— Не знаю. Я тогда волновалась. Он сказал еще, что надо переходить на липецкий метод.
— Вот как?! Почему именно на липецкий?
Хмелев листает классный журнал. Открывает страницу «Геометрия». Просматривает оценки.
— Девять двоек. Плохо.
— Они уроки не учат.
— Мда… Ну что ж…
На этом он разговор кончает, но предупреждает, что несколько дней будет ходить на все ее уроки.
Прежде всего он идет на геометрию. Тоня из всех сил старается, чтобы все прошло хорошо. После урока спрашивает:
— Ну, как?
Он говорит:
— Не торопитесь. Я хочу понять, в чем дело.
— Но все-таки?
— Не терпится? Ну, что ж, скажу. Есть отдельные погрешности. Вот, например, вы спросили Зяблова, он встал, а посадить вы его забыли… Оценку Тухватуллиной завысили. Но не это главное… Вы третий год работаете? — Хмелев поглаживает бороду, хмурится. Тоня по его лицу догадывается, что он собирается сказать что-то еще более неприятное. И он говорит: — Да, главное не в этом… Главное в том, что… скучно!
Хуже этого Хмелев, пожалуй, ничего не мог бы сказать. Тоня делает над собою усилие, чтобы казаться спокойной. Она спрашивает:
— А как надо не скучно?
— Вы знаете, — говорит Хмелев, стараясь сделать свой голос ласковым, — я не хочу торопиться. Я еще похожу к вам. Может быть, это случайное впечатление. Я еще похожу, а потом мы поговорим подробно. Не будем спешить с выводами. Но первое впечатление именно такое — скучновато.
— А как же быть с липецким методом?
— Это уж ваше дело.
Вот это Тоне не нравится. Он завуч, он должен советовать, а вместо этого нейтральное — «ваше дело». Тоня любит определенность: так или не так. И к тому же урок… Тоне он скучным не показался. Нельзя же доказывать теорему и приплясывать!.. В прежней школе она была уверена, что все идет хорошо. Завучу Музяеву нравились ее уроки. Он улыбался и похваливал. А почему она обязана верить Хмелеву?..
— Антонина Петровна, тебе рыбы надо?
На пороге кухни парень. Тоня сразу узнает его. Это тот самый: «Чудное дело — девка ты, а плаваешь ровно мужик».
В комнате он кажется еще огромней. Высокий, плечистый, обросший рыжей щетиной, он держит в руках корзину. Из корзины на пол падают капли воды.
Тоня приподымает мокрые лопухи.
— Какая у тебя рыба?
— А это язи. Прямо из сети.
Блестит мокрая серебряная чешуя, красные плавники. У Тони нет денег. До зарплаты еще несколько дней. Она хитрит:
— Мне чистить некогда.
Парень улыбается.
— Я тебе почищу.
— Сковороды нет.
— У нас есть. Долго ли принести. Мы тут недалеко, внизу живем.
Нет, видно, он так просто не отстанет. Тоня протягивает ему рубль.
Парень решительно отстраняется.
— С тебя мне брать нельзя. Ты моего брата учишь.
— Как его фамилия?
— Копылов. На меня походит, только ростом не вышел.
— Самовольный парнишка.
— Есть маленько. Да ведь без отца, без матери. Вдвоем живем.
— Слышала. А как звать тебя?
— Егором.
— Что ж ты в дверях встал? Проходи, гостем будешь.
Егор оставляет корзину в кухне. Низко наклонившись в дверях, проходит в комнату. Сапоги у него огромные, в береговой глине. Он садится, подобрав ноги под табурет. Фуражку не снимает.
— Ты, Егор, посиди, отдохни, если хочешь, а мне работать надо.
— Я пособлю тебе.
— Ничего не получится. Я заниматься буду.
Тоня опять садится за тетради. Егор подходит к подоконнику.
— Это пошто у тебя?
— Зеркальце такое.
— А я посчитал процигар. Вот, думаю, дивно — девка, а курит. — Егор кладет зеркальце на место. — А это что?
— Пудра.
— Пахнет, однако, ладно. — Берет в руки флакон духов «Кармен». — Портрет чей-то. Не наша, видать, какая-то?
— Ты угадал.
Егор вынимает из кармана газету, отрывает узкий клочок, свертывает цигарку.
— Здесь не кури, — просит Тоня. — Ты уйдешь, а мне всю ночь дышать дымом.
— Тогда не стану. Ты что пишешь?
— Тетради проверяю. А шапку, когда в дом входишь, надо снимать.
Он стаскивает с головы фуражку, приглаживает пятерней всклокоченные рыжие волосы. Осторожно берет со стола журнал «Огонек», рассматривает картинки, удивленно хмыкает.
— Это кто ж такой? То ли зверь какой?
— Жирафа.
— Ну, шея!..
— А ты что, читать не умеешь?
— Туго. В малолетстве ладно читал, а теперь забывать стал.
— Кем ты работаешь?
— Конюхом. — Помолчав немного, продолжает: — Я к лошадям сызмальства любовь имею. Они мне и учиться не дали. Дружки в школу, а я на конюшню. Самое милое для меня удовольствие. Мать за уши драла, а я опять за свое.
— Егор, я исправила правильное на неправильное.
— Мешаю? Все, молчу.
На цыпочках он удаляется на кухню. Скрипнула половица. Звякнула тарелка. Слышно, как льется вода в таз.
— Егор, ты что там возишься?
— Ты делай свое дело. Делай. Я рыбу почищу.
Тоня забывает о нем. Минут через двадцать он склоняется над ее плечом.
— Все пишешь?
— Пишу. Такая уж моя работа. Слушай, Егор, а Клюквинка от нас далеко?
— Клюквинка? Ничего не далеко. По Оби подняться, сперва будет Светлая. Это протока, значит. Потом Журавлиная. А там и Курья. По ней влево взять — и Клюквинка.
— Ну что ж, спасибо.
Егор еще раз заглядывает в тетради, надевает фуражку.
— Будь здоровенька. Гуляй к нам.
Против окон учительского дома останавливается грузовик. Пофыркивает и умолкает. В кузове его мебель: деревянная двухспальная кровать, светлой фанеровки шифоньер, стулья, круглый стол, трюмо, в котором отражается зеленый кусок бора. Над всем этим торчат, как два огромных цветка, розовые абажуры торшеров.
Из кузова спрыгивает на землю Борис. Галстук у него сбился на сторону. Тоня уходит от окна в свою комнату. Через минуту стук в дверь.
— Можно к тебе. Мы вещи привезли.
Борис терпеливо ждет, что она скажет. А что она может сказать?
— Вещи? Ну, что ж…
Он хмурится, резко поворачивается и уходит. Рассердился. Но вещи — это теперь его дело. Пусть ставит у себя, что угодно, хоть живого слона.
За дверью — топот ног. Негромкий, но энергичный голос Бориса:
— Сюда… Еще немного подвиньте. Пройдет… Потише — лак. Не поцарапайте… Хорош!
Просовывает голову в Тонину комнату.
— Можно к тебе кровать? Или хотя бы диван?
Тоня равнодушно:
— Мне ничего не надо.
— Но здесь некуда. Не загораживать же окна…
Борис не уходит. Тоне приходится согласиться.
Двое незнакомых мужчин вносят диван и придвигают его к стене. Придвинув, выходят на цыпочках, как будто в комнате больной.
И снова четкий голос Бориса:
— Присаживайтесь.
Звенят стаканы…
— Луковичку бы.
— Поищем.
— Э, не ставить, не ставить.
Слышно, как жуют.
— А хозяюшка не составит компанию?
— Ей нездоровится.
А хозяюшка в это время сидит на раскладушке и бессмысленно глядит в задачник. Новые вещи… К чему они? Как насмешка. Они — мертвые, в них никакой радости.
Опять является Борис.
— Тоня, может быть, с нами? Вот люди говорят — обмыть надо.
— Обмывайте.
— Не хорошо так. Не хорошо…
Конечно, он не только о том, что надо выйти к людям, а еще и о другом. Должно быть, хочет воспользоваться случаем для примирения. Ну, что ж, она выйдет, но не для него, а для людей. Зачем ей показывать себя букой?
На новом круглом столе бутылка водки и наливка. Вишневая. Тонина любимая. Душистая. Значит, он заранее все продумал. Тоню усаживают на только что привезенный холодный еще стул.
— Знакомьтесь, — приглашает Борис. — Моя жена.
Он произносит слово «жена» и смотрит испытующе в лицо Тоне. Как она к этому отнесется. А Тоня оборачивается к незнакомым мужчинам.
Один маленький, в старой стеганке. Ему лет сорок, но он уже потрепанный жизнью, с глубокими морщинами на худом лице, какой-то коротенький, словно обрубленный. Другой — плотный, рослый, в сером шерстяном свитере, со спокойной сдержанной улыбкой.
Короткий привстает, протягивает Тоне руку.
— Павел Захарович Драница.
— Филипп Иванович, — коротко кивнув, говорит другой.
— Раньше я вас не видела. Вы не здешние?
— Мы издалека. Из Краснодара, — охотно поясняет Драница.
— А как сюда попали?
— Вы про тунеядцев слышали? — спрашивает Филипп Иванович и смотрит на Тоню насмешливыми умными глазами. — Так вот мы из этих самых. Не верите? На руки взгляните.