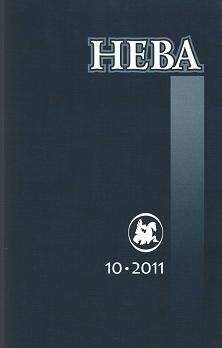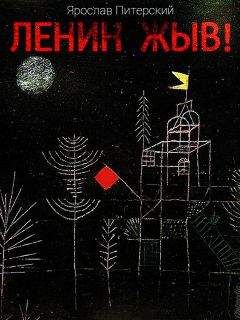Обитал безалкогольный Вакх на последнем этаже буржуазного дома на рю Гей-Люссак. От подъезда до лифта и далее через все коридоры тянулась ковровая дорожка. У его двери дорожка обрывалась вместе с буржуазностью. За ней открывалась каморка, имевшая все шансы сойти за романтическую, но как будто нарочно обставленная самым прозаическим образом. Диван, этажерки с книгами, письменный (он же обеденный) стол, кухонная плитка, душевая кабинка в углу — все предельно практично и без малейшего намека на какую-либо живописность. Тем досаднее был укоренившийся здесь беспорядок, обнажающий не оправданную никаким анархическим умыслом потерю контроля над бытом. В качестве единственного декоративного элемента к стене крепился на липучке вырезанный из газеты портрет какого-то юноши с гладко зачесанными назад волосами и слегка безумным взглядом. Философ объяснил, что это итальянский революционер. Она прослушала, какой именно революции. А может быть, это был революционер совсем без революции? Не всем же выпадает удача полностью осуществить свое предназначение?
Философ курил, сидя в кресле перед компьютером, почти вплотную к ней (она сидела на диване). На экране висел его незаконченный роман. «Зачем он это делает?» — подумала она, имея в виду и роман, и сигарету. И поняла: «Забыться. Не думать о том, что вокруг. И о том, что будет завтра». Ей вдруг тоже захотелось забыться, и, поднявшись с дивана, она пересела к нему на колени. Он ничего не говорил, только низко опустил голову, будто в чем-то перед ней провинился, и продолжал покручиваться на роликовом стуле — туда-сюда. Она, поступая сама себе назло, обхватила руками его шею и, дождавшись, когда он поднимет к ней грустные (грустнее обычного) глаза, поцеловала в губы.
В тот вечер они, не зная куда себя девать, пошли в кино. Смотрели какой-то фантастический фильм, где люди превращались в страшных уродцев с выпирающими из-под кожи ребрами и рыбьими загривками. Эти существа обитали в туннелях, с трудом передвигаясь на подворачивающихся вовнутрь, лишенных ступней ногах. От собратьев по несчастью их шарахало и передергивало, но как вернуться к первозданному облику, они не знали. Ей вдруг стало очевидно, что этот фильм про них, про то, как они только что, преодолевая отвращение, засовывали друг другу в рот раздваивающиеся змеиные языки, не зная, что делать со своими изуродованными неведомым вирусом телами.
Из этого дня 70 607 384 120 250 выбралась благополучно, как из подземелья. Опять слушала лекции под лепными потолками сорбоннских аудиторий, гуляла в Люксембургском саду, осматривала позабытые путеводителем церкви, опрыскивала себя духами из пробных флакончиков в магазине на Елисейских полях, назначала рандеву в кафе новым подругам с факультета.
Через неделю она вдруг набрала его номер и сказала, что зайдет. Философ по-прежнему сидел с сигаретой перед своим романом. По другую сторону стола стоял не разобранный еще чемодан, с которым он обычно ходил за продуктами. Роман был стилизацией под комсомольскую прозу. Его герои, как Незнайка и его друзья, жили в бестелесном мире, где всю ночь мечтали о любимой, а наутро ехали на войну совершать подвиги.
Он попросил ее лечь на диван по фэнг-шуи (ногами к двери, головой к окну) и раздеться только ниже пояса. Она ничего не чувствовала, кроме грубых толчков, как в трамвае. Нависшее над ней лицо оставалось безучастным, поэтому 70 607 384 120 250 переключила внимание на революционера на стене. Было видно, что тот любит и умеет страдать. Только он страдал за свои идеалы, а она — просто так.
Вакханалия закончилась, как и началась, без единого звука. Философ, задернув клеенчатую занавеску, скрылся в душевой кабинке.
— Ты все еще лежишь? — спросил он удивленно, выглядывая наружу.
Она не отвечала.
— Ну, как хочешь, — философ пожал плечами. — Оденься хотя бы.
Он уже натянул брюки и сел перечитывать последний написанный им абзац.
— Ты думаешь, все так просто? — спросила она с дивана.
— А что же тут сложного? — он закурил. — Должно же быть в жизни хоть что-то простое! — и добавил: — Если когда-нибудь напишешь про это, я подам на тебя в суд.
Она еле доехала к себе в Венсенн. По пути села не в тот поезд, через несколько остановок опомнилась, вернулась и опять начала все по новой. Уговаривала себя, что нет причин для отчаяния, что бывают ситуации, когда подпускаешь чужих людей даже намного ближе. Хирург на операционном столе в свое удовольствие может копаться в твоих внутренностях, и ты на него потом не в обиде. Если, конечно, остался жив и здоров. Но она, как назло, заболела. Без температуры и вообще безо всяких специфических симптомов. Было просто плохо и страшно, как будто в ее тело вживили какой-то чип и вот-вот начнется генетическая мутация.
— Чего ты конкретно боишься? — спросила забежавшая проведать ее соседка с этажа.
— Перестать принадлежать самой себе.
Перед отъездом она зашла к нему за книжками. Он предложил встретиться в баре на своей улице. Бар был типично французский, то есть рассчитанный на коренных парижан, преимущественно с окрестных улиц. За атмосферой тут никто не следил, она складывалась сама — именно так, чтобы отпугнуть туристов и дать постоянным посетителям возможность побыть среди своих. За стойкой стояла девушка с высокой прической, накрашенная, как буфетчица, и меланхоличная, как поэтесса. Несмотря на неиссякающий поток жаждущих, работала она подчеркнуто медленно, иногда на несколько секунд замирая с пустой стопкой в руках, пока клиент сам не напоминал ей, что он только что заказал — коньяк или виски.
Они взяли по чашечке эспрессо, которое пришлось нести к столику почти над головой, чтобы уберечь от столкновения с другими посетителями, неловко толкущимися в проходе. 70 607 384 120 250 чувствовала себя прекрасно и была будто опьянена предвкушением скорого возвращения домой. Ей захотелось, чтобы и философ подумал или поговорил о чем-нибудь приятном. Она обратила его внимание на стоявшую у входа мулатку с фаянсовой кожей в щеголеватой шляпе на ковбойский манер:
— Смотри, какая красивая!
— Ты красивее, — вздохнул философ, едва оглянувшись, и стал почему-то еще мрачнее.
70 607 384 120 250 засмеялась:
— Я не в счет!
Философ накрыл ее руку своей, но смотрел все время куда-то мимо, будто в противоположном (пустом) углу находилось нечто для него очень важное, от чего он никак не мог оторвать глаз.
Перед их столиком появился клошар и что-то затараторил, протягивая грязную ладонь за подаянием. Философ ничего ему не давал, но и не прогонял, продолжая пребывать в своем необъяснимом оцепенении. Тогда озадаченный клошар решился, видимо, на крайнее средство и, доверительно наклонившись над самым столиком, мечтательно прошамкал беззубым ртом:
— О лямур, лямур!
За полгода до смерти у отца появилась коляска. Простейшая модель — без автоматического привода и регулируемой спинки. Он сам спускал ее по лестнице со второго этажа при помощи соседа-алкоголика. Коляска давала возможность передвигаться по всему району, хотя это и было рискованно: несколько раз его грабили — отнимали деньги и мобильный телефон. Возможно, правда, он просто сочинял эти истории для бабушки и Зины, а деньгами и телефоном распоряжался как-то по-другому. В образ несчастного инвалида он вживался неохотно, иногда нарочно усугубляя его гротескными чертами, чтобы не принимать всерьез.
Больше всего отца притягивали магазины. В респектабельный «О-кей» его, впрочем, не пускали, поэтому для постоянных визитов он облюбовал «Перекресток». Проходы там были уже, и коляска с трудом лавировала между заставленными до потолка стеллажами, но зато охранники относились к нему снисходительно. К тому же он всегда что-то покупал. И обязательно что-нибудь ненужное, непрактичное, «только для души», как говорила бабушка Лиля. Она показала 70 607 384 120 250 одну из его последних покупок: набор бритвенных станков с самовыезжающими лезвиями. Отец не брился годами, поэтому не было сомнений, что в товаре его заинтересовало нечто большее, чем бытовое предназначение. 70 607 384 120 250 покрутила в руках один из станков, несколько раз нажала на кнопочку — механизм бесперебойно функционировал. И отец жил в нем дальше — красиво, технично и, может быть, даже вечно.
Иногда он уезжал на коляске и не возвращался всю ночь. Никто не знал, что он делает. Но для него это был глоток свободы: просто уйти в никуда, блуждать по городу и ничего не объяснять. Часто его подбирала милиция. 70 607 384 120 250 подозревала, что и это тоже было частью плана: отец если и соглашался на роль жертвы, то всегда только в собственной постановке.
Зина рассказывала, что накануне смерти он тоже допоздна проездил в коляске. Но вернулся сам и попросил его помыть. Каждый раз, принимая душ в их квартире, 70 607 384 120 250 проигрывала в уме эту последнюю сцену из его жизни. И каждый раз массивное тело отца не укладывалось в ее воображении в эту короткую, как корыто, пожелтевшую ванну. Она могла представить его здесь только в позе эмбриона.