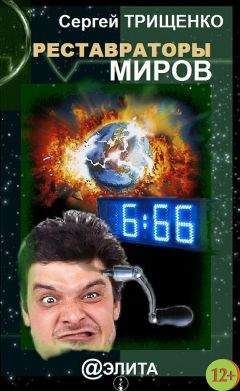189
На деле, как пишет биограф поэта С.Старкина, идеи Хлебникова, иногда бредовые при жизни, ныне, через восемьдесят лет, только начинают находить признание. Он «говорил о связи времени и пространства, о цикличности исторических процессов, о влиянии лунных и солнечных циклов на человека и природу, о закономерностях расселения народов в Европе. Он размышлял о происхождении и развитии языка, об условности языкового знака... о строительстве железных дорог, о современной архитектуре, о значении кино и радио. Он высказывался по проблемам экологии и атомной энергии... Хлебников, - подчеркивает Старкина, - намного опередил свое время...»
Семья Бурлюков состояла из восьми человек: кроме родителей - три брата и три сестры. Давид и Николай станут поэтами, Владимир - художником. Художницей станет и старшая сестра братьев - Людмила. В Чернянке у Бурлюков все, как пишут, принимало «гомерические размеры». Количество комнат, прислуги, особенно женской, которая «производила впечатление гарема», количество пищи, поглощаемой за столом. Особенно радовала Хлебникова семейная библиотека Бурлюков. Пользовался он ею, правда, своеобразно. Экономка часто видела, как далеко за полночь Хлебников с книгой в одной руке и свечой в другой бродил по аллеям парка. «Прочитав страницу, он вырывал ее и бросал на дорожку». Однажды экономка спросила его, зачем он рвет книги. «Раз она прочитана, - ответил поэт, - она мне более не нужна...»
Недавно в переписке Лили Брик и ее сестры, Эльзы Триоле, наткнулся на имя К. Богуславской. Оказывается, Э.Триоле в 1970 г. нашла в Париже Ксану и сообщила в Москву Л.Брик: «Была вчера у Ксаны Пуни. Она живет за городом, у нее был удар, и она почти парализована, квартира же в Париже, на 4-м этаже. Ей необыкновенно повезло в том отношении, что в больнице к ней привязалась ночная сестра, с которой она сейчас живет и которая за ней ухаживает, как мать родная. Была у нее Надя (русская жена художника Фернана Леже. - В.Н.) и выудила у нее две картины для Москвы или Ленинграда. Ксана ее видеть не могла до сих пор, но икра, московские конфеты плюс две певицы из Большого театра покорили немедленно Ксанино сердце на несколько миллионов. Тут же ей Надя объяснила, что она к нам ни ногой, оттого что мы ненавидим Россию...» Редкие, кстати, строчки в многостраничной переписке сестер, когда они не говорят «о тряпках». Правда, об икре и московских конфетах не удержались - помянули...
«Дело Бейлиса» началось в 1911 г., когда приказчика-еврея Менделя Бейлиса обвинили в ритуальном убийстве русского мальчика Андрюши Ющинского. Убийство было совершено якобы для использования христианской крови в сакральных целях киевского еврейства. Дело инициировали черносотенцы, которых неожиданно для всех поддержал министр юстиции России И.Щегловитов. То, что дело было сфабриковано, стало ясно уже на предварительном следствии, однако процесс тянулся до октября 1913 г. «Процесс Бейлиса» разделил на два лагеря не только страну, но и художественную интеллигенцию. Обвинение в адрес Бейлиса поддержал, например, философ и писатель В.Розанов. А против его осуждения и с разоблачением позорного факта неоднократно и страстно выступал В.Короленко, чей авторитет после оправдания судом присяжных М.Бейлиса только возрос.
О, это знаменитая в Петербурге квартира! Только о ней можно написать отдельную книгу. Здесь жил С.Исаков, помощник хранителя музея Академии художеств. Но именно у него и его пасынков Николая и Льва Бруни собирались здесь те, кого можно было назвать художниками «левого искусства». По словам Н.Пунина, искусствоведа и будущего мужа А.Ахматовой, здесь постоянно бывали до революции художники Альтман, Тырса, Малевич, Митрохин, Татлин, Митурич, поэты Бальмонт, Клюев, Хлебников, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Городецкий. Бывал здесь и Артур Лурье (единственный музыкант среди них). Центром своеобразного кружка был художник Лев Бруни (1896-1948), по словам Лурье, «выдающийся молодой человек». А старший брат его - Николай Бруни (1891-1938), был поэтом и прозаиком, членом первого еще «Цеха поэтов». Кстати, здесь в 1914 г. и состоялось последнее заседание первого еще «Цеха поэтов». Наконец, здесь В.Хлебников окажется в мае 1917 г., приехав из Красной Поляны. Он даже поселится тут вместе с другом-поэтом Г.Петниковым. И здесь «произведет впечатление» не только на художников и поэтов - даже на неграмотную кухарку Акулину. Она скажет про Хлебникова своей хозяйке: «Ах, барыня! Какой он горящий! Ах, какой горящий!..» Под словом этим, пишут, имела в виду - и «терпящий горе», и «горящий огнем»...
Мать поэта, Наталья Шеншина (1837-1921), была дочерью предводителя дворянства Щигровского уезда Курской губернии. Первым мужем ее был генерал-лейтенант, военный строитель Г.Домонтович - родной, между прочим, дядя Александры Коллонтай.
Много лет спустя поэт В.Адамс рассказал биографу И.Северянина М.Петрову, автору книги «Донжуанский список Игоря-Северянина», что поэт всегда мог «без всякой подготовки, почти профессионально исполнить любую оперную партию: “А голос у него был концертный, - подчеркивал Адамс, - стены дрожали!..”»
С 1904 г. И.Северянин, которому было семнадцать лет, упорно рассылал свои стихи по различным редакциям, откуда их ему неизменно возвращали. «Продолжалось это до 1910 г., когда я прекратил рассылы окончательно... За эти годы мне “посчастливилось” напечататься только в немногих изданиях. Одна “добрая знакомая” моей “доброй знакомой”, бывшая “доброй знакомой” редактора солдатского журнала “Досуг и дело”, передала ему (ген. Зыкову) мое стихотворение “Гибель «Рюрика»”, которое и было помещено... под моей фамилией: Игорь Лотарев». После этого он придумал себе красивый псевдоним Игорь-Северянин (по другой версии, его придумал известный поэт К.Фофанов). Под этим именем, которое изначально писалось через дефис (так значилось и на визитках его, и даже на медной доске на дверях квартиры, хотя в печати этот «манер» его не приживется), он станет выпускать тоненькие тетрадки стихов, которые будет звать почему-то брошюрами. Они выходили с 1904 по 1912 г. Тираж их был 100 экземпляров, а вышло их чуть больше тридцати.
Через год у И.Северянина начнется роман с ее сестрой, Зиной, девушкой с «голубыми ленивыми глазами», которая тоже была в той лодке, застрявшей под мостом. Зинаида, а ей только что исполнилось семнадцать, сама напишет ему письмо и назначит свидание у Зимней канавки. Весь роман с ней будет описан с пикантными подробностями в эротической поэме «Винтик» (там Зинаида выведена под именем Раисы) и более сдержанно в романе «Падучая стремнина». Ради встреч с нею поэт снимет половину избы в Пудости. Именно Зинаиде Северянин в своем «донжуанском списке» присвоит потом третий номер. А старшей сестре ее, Дине, номер второй... Разрыв с Зинаидой также описан в стихах: герой поэмы застанет ее в компании местного телеграфиста, писца и прочих за «делами», от которых, как пишет, «в избе краснеют стены». «И девушка, - заканчивает поэт, - пошла по ним, по всем...» А в прозе признается потом: она «оказалась мещанкой в полном смысле» слова.
Строки из стихотворения И.Северянина «Хабанера II» (оно было напечатано с посвящением некоей «Синьоре Za») цитируются в очерке И.Наживина не точно. Надо: «Вонзите штопор в упругость пробки...»
И Константин Олимпов (1889-1940), сын К.Фофанова, и Василиск Гнедов (1890-1978) считали себя поэтами. Олимпов после революции служил в Красной армии, в 1930-х г. был арестован и сослан в Барнаул. Умер в Омске, накануне войны. Что же касается Василиска (на деле, разумеется, Василия) Гнедова, то он, кого В.Хлебников, кстати, «назначит» одним из Председателей Земного Шара, будет призван на Первую мировую в ополчение, где за храбрость получит Георгиевскую медаль. Окончив военное училище, станет прапорщиком и в 1917-м, примкнув к революционным солдатам, будет назначен начальником караулов арсенала Кремля. Говорят, именно он командовал красной артиллерией, обстреливавшей Кремль, и его пушки пробили купол Успенского собора. После революции служил народным судьей Сокольнического района, в 1925 г. вступил в ВКП(б), а в 1936-м был арестован и провел в заключении около двадцати лет. После реабилитации, всеми забытый, жил в Киеве, потом в Херсоне, где и умер.
И.Северянин, познакомившись в эмиграции с мемуарами Г.Иванова, откликнется на них фельетоном под оскорбительным названием «Шепелявая тень». «К сожалению, “вечный Иванов” - да и то второй! - в своих “теневых мемуарах” неоднократно, но досадно “описывается”... Вводить же меня, самостоятельного и... непреклонного, в Цех, где коверкались жалкие посредственности, согласен, было действительно нелепостью, и приглашение меня в Цех Гумилевым положительно оскорбило меня. Гумилев был большим поэтом, но ничего не давало ему права брать меня к себе в ученики...».