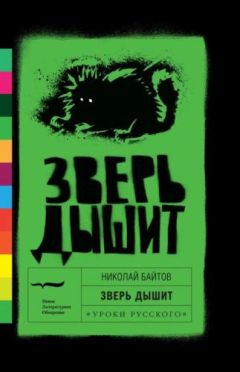И тогда я спросил Калитникова: «Виталий Леонидович, вот вы говорите, что в этом ходе есть нечто женское и потому мужчины, которые это чувствуют, никогда так не ходят. Но позвольте вас спросить в таком случае, что же должен чувствовать мужчина, когда его противник сделал всё-таки такой ход?» — «Что чувствовать?» — «Ну да, и чувствовать, и реагировать — он как-то же должен?» — «Не понимаю… Он просто должен продолжать игру — вот и всё. А что ещё, по-вашему? — Калитников улыбнулся. — Ну, пусть ещё он про себя воскликнет: «Ах, вот оно что! отлично! Я этого ожидал! У меня на этот случай всё предусмотрено!» Пусть он возбуждённо потрёт руки, похлопает себя по бёдрам, по карманам, побренчит спичками, встанет, закурит. Что ещё?»
Я видел, что Калитников уже смеётся надо мной. И всё же я не нашёл другого выхода, как рассказать ему некую выдуманную историю. «Я, собственно, почему вас спрашиваю. Ведь я хотел попросить вашего совета… Год назад я познакомился с этой женщиной… При каких обстоятельствах — не буду говорить. Скажу только, что при сложных… Ну, а потом мне пришлось вступить с нею в переписку (она живёт в Киеве). Писали друг другу что-то вымученное, я уже не мог, и наконец я предложил ей сыграть в шахматы, зная, что она хорошо играет. Это на какое-то время решило проблему. И вдруг, представьте, она делает этот ход. Сначала я подумал, что она ошиблась. Пишу ей. Нет, она отвечает, что так ходят и что если я не знаю, то и нечего играть, — в таком роде. Я совсем не знаю, что думать… Понимаете, мы с ней согласились играть на крупную сумму денег, а у неё позиция сейчас послабей, чем у меня. Что же это должно означать? Может быть, она хочет таким образом прекратить игру, чтобы не остаться в проигрыше? Или, учитывая теперь ваши объяснения, мне следует интерпретировать её ход как завуалированное предложение отдаться мне (вместо проигранной суммы). А? Что вы на это скажете?»
Я смотрел на Калитникова. Тот снова сморщился, похмыкал, посопел и помычал что-то. «Какая позиция?» — спросил он наконец брюзгливо. Я быстро начертил ему. Нет, на этом меня не поймаешь, в шахматах я всё-таки разбираюсь. Я начертил некую относительно спокойную эндшпильную позицию, без ферзей, по одной ладье, белый слон и две пешки у белых, четыре пешки у чёрных. Я играю белыми.
— Это после её хода? — спросил Калитников.
— Нет, это так было. И в таком положении она пошла пешкой f — g.
Калитников с минуту глядел на диаграмму.
— Ну, что же, — усмехнулся он. — Очень правильно поступила ваша партнёрша. Теперь у чёрных уверенный выигрыш: они проводят крайнюю пешку. А так белые, возможно, имели шанс на ничью при изобретательной игре.
Я очень удивился: мне-то казалось, что белые сильнее. Но я поверил Калитникову, ведь диаграмму я нарисовал с ходу, наобум.
— И что же вы, Виталий Леонидович, делали бы теперь на моём месте? — спросил я. — Сдались?
Калитников пожал плечами:
— Разве обо мне речь?.. Я знаю два продолжения, которых не знаете ни вы, ни ваша партнёрша, по-видимому, — иначе она так не пошла бы. Но честно ли будет с моей стороны вам подсказать?
— Постойте, постойте! — возмутился я. — Но ведь я не знал и самого хода, а не только его возможных продолжений! Разве с её стороны честно обеспечить себе выигрыш при помощи хода, о котором я не знал?
— Хм, — улыбнулся Калитников. — Вообще-то резонно… Тогда смотрите… Вообще-то это всё довольно тривиально, но я, так и быть, наведу вас на мысль. Главное соображение, которое невольно является при виде такого хода, — это то, что пешку можно рассматривать как точку, фиксирующую вертикаль. Пешка не может покинуть свою вертикаль таким способом. Если она сейчас переместилась с f на g, значит, просто вертикаль g становится вертикалью f со всеми вытекающими отсюда последствиями.
— С какими же последствиями? — изумился я.
— С такими, что вы просто сдвигаете доску — на одну клетку влево или вправо (это уж зависит от вашего выбора)… Конечно, это лишь в том случае, если вы на такой ход объявите своему партнёру, что данная пешка является для вас фиксатором буквы. Если вы этого не делаете, тогда, понятно, доска остаётся прежней и игра продолжается с перемещённой пешкой.
— Ну а если я это делаю, тогда что?
— Я же вам сказал, — уже нетерпеливо и немного презрительно стал вновь объяснять Калитников. — Вы сдвигаете доску. По цилиндру. Влево или вправо на одну клетку. В данном случае пешка пошла вправо. Значит, если вы принимаете её перемещение относительно позиции, то сдвигаете всю доску влево. Вертикаль a отсекается от вертикали b и примыкает к h. Ход белых. Но вы имеете возможность и отвергнуть её перемещение относительно других фигур. Тогда буквы будут связываться для вас не с доской, а с позицией. Значит, между пешкой f и вертикалью h вы должны восстановить «съеденную» её ходом вертикаль g, которая теперь переместится на край доски, а h, следовательно, оторвётся от неё и примкнёт с другой стороны к вертикали a. В этом случае ход чёрных (ибо перемещение пешки отвергнуто). Вам понятно?
Я кивнул.
Калитников продолжал смотреть на диаграмму.
— И вот в одном из этих случаев — в каком именно, вам самому нетрудно догадаться, — белые имеют, по-моему, шанс даже на выигрыш… Здесь меняется цвет слона… сейчас… если только я не ошибаюсь…
Он ещё некоторое время смотрел на диаграмму, но его лицо было вполне непроницаемым, и прочесть что-либо из его мыслей нельзя было. Потом он отвернулся и больше ничего интересного не сказал. Так что я на этом заканчиваю свою запись моей с ним беседы. На всякий случай привожу диаграмму, которую я тогда придумал.
Белые: Кр a3, Л e1, С b3, пешки a4, e4;
чёрные: Кр h6, Л c6, пешки a5, eб, f7, h5.
Серые клочья облаков пролетали в жёлтой полосе заката к океану. Сумерки быстро сгущались. Конец сентября, равноденствие прошло. Мы сидели за столом на веранде и молчали, время от времени покуривая. Свет не зажигали. За нашими спинами мощно присутствовала громада Мишиного сарая, сложенная двести лет назад из серого песчаника, — почти без окон, с низкой дверью и высокой черепичной крышей. Впереди, на западе, там, куда мы смотрели, участок понижался, шёл чей-то выгон, на котором паслось шесть коров, сейчас они уже легли спать под кустами. А ещё дальше, метрах в ста, — обрыв в глубокий каньон. Там уже в полной темноте под ветвями дубов и вязов текла и журчала маленькая речка Англен.
Было ветрено. Облака неслись перед нами на жёлтом меркнущем фоне. Похолодало. Я поёжился, встал и накинул куртку. Сверчки молчали. С левого края деревни, из-за дальних домиков, донёсся одинокий, душераздирающий, трубный звук, ни на что не похожий. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил Миша. — «Нет». — «Это кричит ишак. Они здесь держат. Не знаю для чего. Просто держат, никак не используют».
Мы целый день работали в сарае, который раньше был хлевом. Миша его купил вместе с участком земли и теперь хотел превратить в жилой дом. Мы ломали настил сеновала. Вытаскивали на двор тяжёлые балки. Очень устали, обсыпались с головы до ног трухой ветхого сена, вымылись под душем. Затем выпили кислого молодого вина и сидели, изредка покуривая и перебрасываясь репликами раз в две-три минуты.
Миша взглянул на часы. — «Восемь. Ещё не поздно съездить на ферму. Я хочу купить сыру. Там чудесный мягкий сыр я беру, совсем свежий. Очень хорош к вину. — Миша кивнул на пятилитровую пластмассовую канистру, только початую нами. — Ты поедешь со мной?» — «Конечно». — Он встал и пошёл к машине, я за ним. — «Далеко здесь?» — «Минута езды».
Там был такой же серый каменный сарай под черепицей. Из дверного проёма вышла женщина лет пятидесяти в очках и в белом фартуке. Она заулыбалась несколько фальшивой улыбкой, какую почему-то французы всегда обращают к незнакомым. Хотя Миша уже был известен ей как клиент, но это не меняло дела. Она что-то сказала, Миша что-то ответил, и она жестом пригласила нас внутрь.
Мы вошли. Горела лампочка под жестяным колпаком, и сверкала стеклянными и металлическими частями великолепная современная машина. «Сепаратор, — кивнул Миша. — Видишь, как всё механизировано. И машинная дойка. И сыроварня. Она одна управляется. С мужем. Без всяких работников».
Женщина, всё так же неестественно улыбаясь, прислушивалась к нашему разговору, потом что-то спросила. Миша ответил. Тогда её улыбка оживилась, и ещё что-то она начала быстро говорить.
«Я сказал ей, что ты из России, — объяснил Миша, повернувшись ко мне, — и она сказала, что её бабушка тоже была русской». — «Вот как? Эмигрантка?» — «Да. Приехала сюда в двадцатом году. Вышла замуж за француза и купила эту ферму…»
Что-то это всё начинало напоминать — и женщина, и её ферма — да и вообще…
«Спроси, как звали её бабушку». — Последовал ещё один длинный французский диалог. Я подозревал, что Миша говорит с сильным акцентом и речь собеседницы понимает процентов на восемьдесят, не больше.