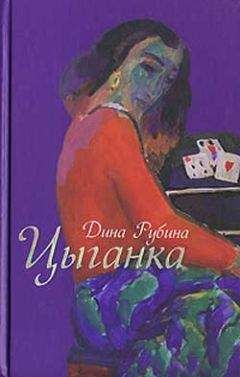Она сморщилась и стала массировать виски.
– Голова разболелась... Чертова погода, чертов дождь... Сколько мы здесь уже сидим? – И впервые взглянула на часы. – О боже, кучу времени я у вас отняла! Вы на меня полдня угробили!
– Напротив, – возразила я, делая знак Ольге – рассчитаться: легкое движение пишущей в воздухе руки. – Напротив, я работала, как каторжная.
– А я такая эгоистка! Даже не спросила, чем вы занимаетесь, кто вы...
– Какая разница, – отозвалась я. – Странствующий собиратель историй.
Уже надев полусырое пальто (все-таки здесь действительно было прохладно), Мирьям еще раз оглядела комнату...
– Вот, побывала в гостях у Пабло... – сказала она, удивленно подняв нарисованные брови. – Кто бы мог подумать! В последний раз Адам играл здесь на виоле да гамба... Представляете? Пабло чуть в обморок не упал. Не верил, что тот впервые взял в руки этот инструмент... А звук у виолы такой... эротичный – унисон тела и души... или, если хотите, Эроса и Танатоса...
На пороге обернулась еще раз, помахала рукой и весело крикнула:
– Прощай, Пабло, старый хрен! – и вышла. У калитки меня перехватила Манана с зонтом, давно уже сухим... Придержала за локоть.
– Это был тяжелый разговор, да? – тихо спросила она. – Я сразу поняла! Стояла здесь и всех от вас отгоняла! Я их всех отогнала наверх, да?
Я молча поцеловала ее в щеку и пошла вслед за Мирьям.
Дождь прекратился, хотя небо бурлило темными клубами, что неслись и неслись куда-то в сторону Масличной горы, и дальше, за перевал, к Мертвому морю...
В любую минуту дождь мог припустить с новой силой.
– Я провожу вас до отеля, – сказала я.
– Нет-нет, ни в коем случае! – Она опять улыбнулась немного клоунской своей улыбкой: морщинистый седой мальчик, если без шляпки. Шляпку держала в руке, та не успела высохнуть. – Наоборот, это я провожу вас к авто и помогу вывести его со стоянки...
Взглянула на мое смущенное благодарностью лицо и с жаром воскликнула:
– Вы будете легко, азартно водить, помяните мое слово! В вас робости нет. Первый день за рулем – и наклюкалась, как свинья! Вы замечательно будете водить!
Дорогая Ирина Ефремовна! Вы, конечно, меня не помните – представляю, какая лавина судеб и лиц обрушивается на Вас в течение года... Сколько туристов, школьников, репатриантов, политиков, гостей... А ведь Вы работаете в «Яд ва-Шем» много лет, если не ошибаюсь? Поэтому даже и не важно, помните ли Вы очередную посетительницу, которая полгода назад явилась в музей, к тому же, не по своей надобности, а по просьбе соседки, чья семья погибла вся в Рижском гетто. Узнав, что мы едем отдыхать в Эйлат и неделю пробудем у родственников в Иерусалиме, она просила обязательно пойти в «Яд ва-Шем» и заполнить стандартные анкеты на погибших ее родных. Что я и сделала.
Вы, разумеется, не помните, но я слегка заблудилась в коридорах административного корпуса, вы шли навстречу, любезно вывели меня и даже показали тот потрясающий вид с вершины холма на шоссе в Тель-Авив; мы немного поговорили, а на прощание Вы дали мне свою визитку, которой я – боже упаси – не намерена злоупотреблять.
Но ближе к делу.
Уже дома, в Саратове, я все время возвращалась и возвращалась в памяти к этому месту – «Яд ва-Шем». И перед моими глазами все плыли эти лесистые холмы в ярком закате, и одинокий вагон над обрывом, устремленный в никуда, – памятник всем, кого увезли в пламя топки... Никак не могла я отделаться от этих картин, они во мне, поверите ли, звучали, как музыка...
И я стала думать о том, что это, конечно, замечательная идея и великое ее воплощение: поименно вспомнить всех замученных, сожженных, расстрелянных... Воистину вернуть теням место и имя... Потом пришло в голову, что хорошо бы создать такой всемирный гигантский музей, в котором бы огромный штат сотрудников собирал имена вообще всех замученных на земле. Свидетельство и напоминание о том, что люди делали и продолжают делать друг с другом!.. Но я опять сбиваюсь на что-то абстрактно-всемирное. Надо бы конкретней.
А конкретней, речь пойдет о моей семье. Да нет, в мясорубке двадцатого века почти все мои самые близкие остались живы. Почти... Во всяком случае, к Катастрофе они прямого отношения не имели. То есть, никак не представляют интереса для Вашего замечательного музея.
И все же...
И все же мне захотелось написать о них: о деде и о Лайме. И о двадцативосьмилетней моей бабушке. Просто записать теми словами, какими я слышала эти истории с детства. Освободиться от настойчивого и странного – не желания даже, а внутреннего веления. Может, напишу вот и успокоюсь. А Вы уж простите меня за неожиданное письмо. Эти несколько листков, написанных скороговоркой, не займут много места среди миллионов документов грандиозного архива «Яд ва-Шем».
...Мой дед Мося, Моисей Гуревич, до войны сделал головокружительную карьеру: в 28 лет стал замуправляющего городским банком. Вообще-то в банке было трое служащих: управляющий, дед и уборщица. И находился этот единственный банк в белорусском городке Костюковичи... Тут важно добавить, что мой дед Мося был здоровенным мужчиной – что называется, косая сажень в плечах, – сплошь заросшим густым черным волосом; в моей памяти разве что на ладонях они у него не росли.
В тридцать восьмом деда взяли, как многих других: десять лет без права переписки. Его сыну, моему отцу, в тот день исполнилось 6 лет, и он помнит, как во время обыска во двор через окно летели подушки. Младшей, Риточке, и подавно был годик с небольшим.
Тут опять отвлекусь.
К тому времени дед был счастливо и нежно женат на бабушке Пане. У нас хранится ее фотография, на которой двадцатичетырехлетняя Паня выглядит гораздо старше своего возраста. Прическа такая, знаете, – валики надо лбом... Брови серьезные. А может, они тогда и вправду быстро состаривались?
Вообще-то десять лет без права переписки означало расстрел, но деда как-то миновало страшное. Может, потому, что сажали тогда полным ходом, шел валовой процесс. Деда, конечно, били, но следователям надоело придумывать обвинения и побоями они в основном пытались добиться, чтоб подследственные показывали сами на себя, сами придумывали – какие и чьи они шпионы.
А дед, во-первых, был молод и могуч, побои выносил, главное же – у него не хватало воображения. Он даже и представить себе не мог – что от него требуют! Чтобы он на себя сочинил всякую преступную чепуху?! На свою такую обычную, хорошую советскую жизнь?! Ему и в голову ничего не приходило! Одним словом – не подписал ничего. Не смог придумать себе вины...
А бабушка Паня в свои 24 года осталась с двумя детьми на руках.
К началу войны она заведовала детским домом. И сама в первые же дни тотального наступления немцев на белорусском направлении спасла семьдесят детей. Непостижимо – как в этой панике и полнейшем бардаке ей удалось выбить целый вагон, теплушку, для своих сирот, но факт остается фактом. Скомандовала детям: «Вещи в наволочку!» – построила их и повела на вокзал. Состав шел в сторону Саратова... где моя семья до сих пор и живет. Но дело не в этом.
Погибла бабушка Паня в сорок втором, после неудачной операции аппендицита. А может, сама операция тут ни причем, просто не вылежала. Понимаете, мужчины были на фронте, и все нужды и тяготы хозяйства тащили на себе три женщины – молоденькая моя бабушка, пожилая воспитательница и старуха-повариха. Поэтому, когда детскому дому начальство выделило бочку масла, Паня, хоть и была после операции, сама поехала за ним на телеге, забирать. Дорога осенняя, разбитая – колесо отвалилось, телега накренилась... Паня тужилась удержать драгоценную бочку... швы разошлись. Началось нагноение, и, проболев недели две, бабушка умерла от заражения крови. Ей было 28 лет...
Дед же в это время валил тайгу по полной пайке. Года три провел на урановых рудниках. Там люди обычно сгорали за полгода. А он – ничего, даже и потом никак не отразилось, только весь облысел. Здоровяк был преотменный. И про эти урановые рудники я слышала с детства из-за одного только случая: однажды, рассказывал дед, он ясно услышал голос покойной матери, зовущей его по имени, причем, по младенческому имени, которым только она его и звала: «Дудэле!». Обернулся на голос и увидел, что на него катится огромная глыба! И успел отскочить...
Забегая вперед, скажу: невероятного везения был человек.
Теперь параллельная история: Лайма.
Ее отец, капитан дальнего плавания, завез семью в порт Находка и там утонул. Через год мать взяли, и Лайму – комсомольского секретаря, девочку компанейскую и веселую, заставляли от матери отказаться. Она не отказалась, о чем всю жизнь жалела (дурой была, говорит). Жалела: мать через год выпустили, а вот саму Лайму взяли буквально сразу, и она-то досидела до сорок шестого. Главное, были загублены без нее братишки – семи и трех лет. Младшего она потом нашла в Ташкенте – он стал запойным пьяницей, а старшего не нашла никогда – его, по-видимому, убили. Потому что, как рассказывал младший, ворвались соседи и били обоих. Помнит только, что было очень больно. Очевидно, старшего забили насмерть.