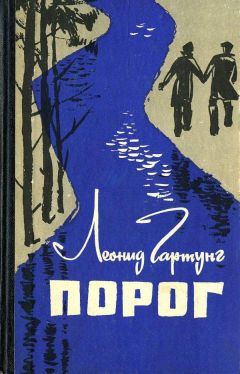Драница знает, что надо отказаться, и не может. Пьет, затем долго кашляет.
— Подохнешь ты здесь, — говорит Степан Парфеныч. — Ты человек южный. Слабак.
— Не слабак, — возражает Драница.
— Из чужих рук смотришь, значит, слабак.
— Из каких это рук?
— Да хотя бы из моих.
Драница обезоружен. Такого он от Степана Парфеныча не ждал. Он берет рукавицы, собирается уйти. Степан Парфеныч окликает его.
— Ну-ка, на дорожку. А то лезешь в пузырь…
Драница колеблется, потом берет стакан. Степан собирает все с верстака.
— Ты иди вперед, а я следом…
Буран, прижав уши, мечется по двору. Степан Парфеныч за ним с палкой.
Митя кричит:
— Тятя, не надо!
Степан Парфеныч отталкивает его.
Буран бросается к конуре, но вход в конуру заслонен большим березовым поленом. Под крыльцо тоже не попадешь — все позанесло снегом.
Степан Парфеныч кидает в Бурана палкой.
— Не нравится?
Бурану деваться некуда. Он по-волчьи садится на хвост. Оскалился.
— Ага, зубы показал! Ну, куси меня, куси…
В это время во дворе появляется Тоня.
— Степан Парфеныч, что вы делаете?
Степан оглядывается. Черт принес эту учителку!
— Что делаю? Учу…
— Чему?
— Жизни! — усмехается Степан. — Вы учите, и я учу. Перво-наперво, чтоб знал, что человек его главный враг. Чтоб за горло его хватал… Он сейчас кто? Падаль. К кому ни попадя ластится. А я из него собаку сделаю. Волка… На цепь его посажу, чтоб железо грыз.
Неожиданно ловко Степан Парфеныч подскакивает к Бурану и бьет его ладонью по оскаленной морде. Лязг зубов, и Степан Парфеныч уже размахивает рукой.
— Резанул, стерва. Но ничего. Пусть кровь знает. Она скусная.
Он сосет рану, сплевывает красную липкую слюну в снег.
— Ну, теперь держись!
— Тятя, не надо! — кричит Митя.
Степан Парфеныч поднимает палку. Буран кидается под ноги Тоне, ищет у нее защиты. В глазах у него ужас. Тоня виснет на руке у Степана Парфеныча.
— Не смейте!
— Пусти, — вырывает тот руку. Глаза у него совсем белые, безумные. Тоня держит крепко. Вдруг он затихает. Пристально смотрит в глаза учительнице. На губах появляется улыбка.
— Боишься меня?
Тоне эта улыбка не нравится. Она не настоящая. Черт знает, что он может сделать с такой улыбкой.
— Боюсь-не боюсь, а собаку бить не дам.
Митя подбегает к калитке, распахивает ее настежь. Буран, прижав уши, кидается со двора. Тоня отпускает руку Степана Парфеныча. Тот грубо ругается.
— Утек, падла. Но врет, никуда не денется. Жрать захочет, придет.
Он тяжело дышит. Вынимает из кармана очки, все в табачной пыли. Вытирает их пальцами. Со злобой смотрит на Тоню.
— А ты девка цепкая… Только много на себя не бери. Меня учили, и я учить буду. Я и Митьку на цепь. Сырым мясом кормить стану, чтоб клыки выросли. Ну, чего уставилась? Думаешь, я пьяный? Ну и пьяный. Не на твои деньги пью. А Егору скажи — я его не боюсь. Так и скажи, я ему башку отрежу. К стенке встану, а отрежу. Спать ляжет, и отрежу. Пусть он лучше от меня уходит. Подобру…
Степан Парфеныч уходит в дом. Митя стоит посреди двора и не знает, куда деваться. Тоня говорит:
— Пойдем к нам.
За калиткой их восторженно встречает Буран.
Падает чистый, тихий снег. Райка идет домой. Впереди кто-то стоит. Тропинка узкая. Им не разминуться.
— Здравствуйте, Рая.
Воротник и шапка Хмелева белы от снега.
— Вы ждете кого-то? — спрашивает Райка.
— Вас.
— Да?
Хмелев хмурится. Голос его, пожалуй, даже сердит.
— Мне нужно с вами серьезно поговорить.
Райка растерянно молчит. Она ждет.
— Дело вот в чем, — говорит Хмелев. — Вы не замерзли?
— Нисколько! — удивляется Райка.
— Вы знаете, мне хочется опять заболеть.
Хмелеву неловко. Какую чепуху он плетет? За кого она его примет? Почему он не может сказать то, что хочет, просто?
— Заболеть? — лицо Райки делается озабоченным. — Зачем же?
— Чтобы вы опять были со мной…
Ну, вот и сказал. Теперь он не смеет посмотреть ей в лицо. Сейчас все должно решиться. Почему же она медлит!! Боится его обидеть? Считает его слабым? Ну, нет, жалеть не надо.
— Это можно и без болезни, — слышит он голос Райки. И решается посмотреть ей в лицо. Она тянется рукой в перчатке и начинает стряхивать с его воротника снег.
— Вы думаете, можно? — спрашивает он.
— Можно.
Она продолжает счищать снег. Много же его нападало. По снежинке, по снежинке… Она счистила уже весь снег, но рука ее остается лежать на воротнике. Это легкое прикосновение приятно Хмелеву. Девушка смотрит в сторону, где школа, и в зрачках ее светятся желтые искры огней.
— Почему ты не смотришь на меня? — вдруг спрашивает Хмелев. Райка поспешно поворачивает к нему испуганное лицо. «Ей жалко меня, она добрая, но я ей противен», — думает он.
Райка совсем близко. Она прижимается щекой к его щеке.
— Ты пахнешь снегом, — говорит он. — И еще чем-то. Наверное, молодостью. И ты прости меня. Это глупо, но я совсем не умею сказать…
Райка не слушает. Она подставляет ему губы.
— Ну, чего же ты?..
Домой она приходит в полпервого. Вся в снегу. Снег на пальто, на пуховом большом платке, на ресницах. Не раздеваясь, садится на стул. Тоня отрывается от тетрадей, насмешливо разглядывает ее.
— Хороша, нечего сказать!
— В кухне кто-то спит?
— Митя Копылов. Ему нельзя домой. Это только на сегодня. А завтра постараемся устроить его у Хмелева. Ты где же бродила?
— Тонь, я, кажется, замуж выйду, — говорит Райка.
— За кого?
— За него. За кого же?
Райка сидит, закрыв лицо руками.
Тоня подходит и кладет ей руку на плечо.
Еще внизу, у входных дверей, тетя Даша таинственно сообщает Тоне:
— Копченый приехал.
Тоня застает его в учительской и, конечно, у расписания. Он все такой же, похожий на утопленника, все в том же коричневом костюме, только, кажется, стал еще суше и темнее. И у Тони к нему по-прежнему страх и неприязнь.
Из пепельницы тянется вверх сизый табачный дымок. На скатерти классный журнал с потертыми углами и с красной цифрой «8»…
Пойдет или не пойдет? Как будто бы нет. Он как ни в чем не бывало читает газету. Тоня уходит в класс. Но только начинает урок, появляется Евский. Он входит, как будто к себе домой, не извинившись за опоздание. Привычно властная походка, небрежный кивок ученикам.
Теперь ботинки скрипят уже еле слышно — обносились. Сутулясь, идет между рядов. Втискивается на заднюю парту.
— Продолжим, — говорит Тоня и старается не смотреть на Евского.
Можно объяснить типовую задачу по учебнику, затем спросить учеников. Так проще и безопаснее. На этом пути почти не может быть неожиданностей. Так, вероятно, она и сделала бы, если бы не рассердилась. Но что это за начальственная манера опаздывать? Или ему хочется застать ее врасплох? Может быть, он думает, что она с учениками пляшет на уроках?
И она решает не изменять своему плану. Конечно, ей следовало вызвать сильного ученика, но она вызывает Митю. Он отвечает робея, но лучше обычного. Она хвалит его и даже заставляет себя улыбнуться. Потом выходит Зарепкин и, словно угадывая, что надо говорить, отвечает уверенно. Тоня благодарно смотрит ему в глаза. Оказывается, она все-таки их чему-то научила.
Постепенно Тоня обретает уверенность, и ребята это чувствуют. Краем глаза она поглядывает на Евского. Он ничего не пишет. «Считает, что и писать нечего», — соображает Тоня, но уже с безразличием. А потом она совсем забывает о нем. Одну за другой задает несколько мелких задач. Они ступеньками подводят к одной главной задаче, и когда Тоня дает ее, поднимается много рук. Почти всем хочется решить задачу. Только Мамылин не поднимает руки. Она вызывает его к доске. Подает циркуль и угольник. Мамылин стоит, опустив руки.
— Ты что? Не понял? Скажи теорему, которую я задавала повторить.
— Не повторял.
— Подай дневник. — Она ставит двойку. — Останься после уроков.
А сама думает: «Что-то не так».
Выходит Соколов, проводит вспомогательную линию, затем Копейка. И все получается хорошо. И только в конце урока Тоня замечает свой просчет — за весь урок никто ничего не написал в тетради. И тотчас же ее уверенность в себе исчезает. Она подавленно умолкает, наспех дает задание…
В учительской Евский разговаривает с Хмелевым о вечерней школе, об использовании фонда всеобуча и даже не смотрит в сторону Тони. «Опять провалила», — думает она.
Она ждет Евского, но он не подходит, и она не решается напомнить о себе. Он что-то пишет в свою большую тетрадь, затем Евский и Хмелев одеваются и выходят, и тут она не может больше вытерпеть неопределенности, догоняет их в коридоре.