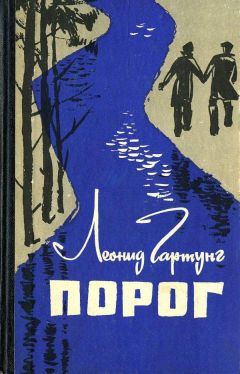— А как же урок?
Евский слегка удивлен. Жует губами. Неторопливо произносит:
— Все не так! — И отворачивается.
— Идите отдыхайте, — советует Хмелев. — И, кстати, умойтесь, вы вся в мелу.
Тоня возвращается в учительскую и смотрится в зеркало. И вовсе не вся. Только бровь, щека да еще юбка. «Надо было по учебнику, — раскаивается она. — По-своему, по-своему… Вот и провалила».
Тоня стучит в калитку. Большой дом под круглой крышей на новом бетонном фундаменте. Наличники и ставни недавно покрашены голубой масляной краской. Высокий забор без единой щелочки… Ей вовсе не хочется входить в этот дом, но здесь живет Петя Мамылин, а она классный руководитель.
Калитку отпирает женщина в старом застиранном платье. Она испуганно смотрит на Тоню.
— Я учительница, — поясняет Тоня, — а вы Петина мама?
— Да.
— Я пришла познакомиться.
К калитке подходит Петя Мамылин. В руках у него деревянная лопата. На лице такое же испуганное выражение, как у его матери. Увидев учительницу, он еле слышно здоровается и бледнеет. «Чего это они так испугались?» — удивляется Тоня.
— Николай Семенович отдыхают. Обождите минутку, я узнаю, — говорит женщина и уходит в дом.
Такого чистого, мертвенно чистого двора Тоня еще никогда не видела. От калитки вдоль дома к крыльцу ведет бетонированная дорожка. На ней ни единой снежинки.
Появляется мать Мамылина.
— Подождите, пожалуйста. Они уже встали.
Через застекленную веранду Тоня идет вслед за женщиной. Маленькая прихожая. Вешалка. Дальше светлая комната с морозными узорами на окнах. Чешский гарнитур. Блеск темного лака. Приемник. На стене картина «Утро в лесу». Закрытая белая дверь в другую комнату, должно быть, спальню.
Тоня усаживается в кресло и ждет. Бьют настенные часы. На диване неторопливо умывается кошка.
Проходит минута, другая, пять, десять. Может быть, о ней забыли? Но в это время дверь открывается и к Тоне выходит плотный мужчина лет сорока. Он в белой рубашке с черным галстуком. В манжетах большие блестящие запонки. На седых редких волосах влажные канавки от расчески. На верхней губе две белые полоски подбритых усов.
— Прошу извинения, — произносит он и делает нечто вроде поклона.
— Я Петина…
Он не дает договорить.
— Знаю, знаю. Очень рад.
Поддернув брюки на коленях, он усаживается за стол против Тони.
— Я к вашим услугам.
Он улыбается, приоткрывая ровные, белые, острые зубы. Тоне не нравится это «к вашим услугам», но говорить надо, раз пришла.
— Сын ваш учится хорошо. Дисциплинирован. Вежлив.
— Так и должно быть, — говорит Николай Семенович, удовлетворенно прикрывая веки. Он терпеливо и вежливо ждет, что еще скажет Тоня.
— Все как будто в порядке. Но вот что меня тревожит — он не сошелся близко ни с кем из своих одноклассников. И, вообще, насколько я знаю, у него нет друзей.
Николай Семенович удивленно вскидывает брови.
— Друзей?! У меня тоже не было друзей.
— А разве это хорошо? Может быть, именно поэтому у Пети очень мало мальчишеского. И живет, как на отшибе, ни до кого ему нет дела.
Николай Семенович поглаживает чисто вымытые руки.
— Нет дела, говорите?
— Например, на контрольной. Решит раньше всех и демонстративно прикроет решение промокашкой, чтоб никто не подглядел.
— Раньше всех, говорите? Это хорошо. Я тоже раньше всех решал. А насчет промокашки до некоторой степени неясно… Вы что же, советуете, чтоб он списывать давал?
В глазах Николая Семеновича улыбка человека, который чувствует свое превосходство. Тоню это задевает. Она говорит:
— Нет, конечно, но в этом сказывается его характер…
— Прошу прощения. Я бы тоже не дал. Каждый должен жить, как умеет.
— Дело не только в контрольных… Сам он учится на пятерки, но никому никогда не поможет, не объяснит.
Николай Семенович опять твердо и вежливо прерывает ее:
— Минуточку, минуточку… А позвольте спросить: надобно ли помогать? У каждого своя голова на плечах. Мне, например, кто помогал? Ровным счетом никто. Сам до всего доходил, и уж до чего дошел, то мое.
— До чего же вы дошли?
Николай Семенович скромно наклоняет голову к плечу, разводит руками:
— Ну, в министры, положим, не вышел, а главным бухгалтером нашего колхоза уже пятнадцатый годочек. И ни одного взыскания. Председатели приходят и уходят, а я все на своем месте. А насчет того, что не любят… Это еще не беда. Меня тоже некоторые не любят. А за что? За то, что ни с кем ничего личного. Начальство, между прочим, ценит и уважает. Да и вообще, зачем говорить о любви? Сегодня любовь, завтра нелюбовь. Всем не угодишь. Дело надо знать.
— Странные у вас взгляды, Николай Семенович.
— Вы думаете? Однако, слишком у нас нянчатся со слабенькими и глупенькими. Разжуй им, в рот положи да еще проглотить помоги. А я думаю, с людьми не так надо: поменьше жалеть да по головкам гладить. Оно бы больше толку было. — С его лица исчезает ласково-приветливое выражение.
— Вот вчера… Далеко за примером не ходить. Изволил ко мне пожаловать некий гражданин. Тунеядец, из Краснодара, кажется. Объясняет, видите ли, что потратился, и на хлеб нет денег. Нельзя ли авансика? Так и говорит — «авансика». А я его спрашиваю: «На что же вы так потратились?» Стоит, мнется. Сказать ему нечего. Пропился голубчик. Я ему, конечно, ни копейки. А по-вашему как? Дать надо было?
— Может быть… Не знаю. Я с ним не говорила.
Николай Семенович смеется, обнажая острые ровные зубы.
— А я вот вам расскажу, как меня отец мой, покойничек, воспитывал. Как сейчас помню, весной ребятишки моего возраста на берег ходили в чику играть. Ну, и я с ними увязался. Дурак был. Знаете чику? Игра известная. Деньги металлические на кон ставят. Был у меня пятачок. Из копилки вытянул. Попробовал поставить. Повезло. Свое вернул и еще четыре копейки выиграл. У меня прибыль, значит. Ну что ж, играю. И чем дальше, тем больше выигрываю. Выиграл, помню, около сорока копеек, если не больше. И вдруг чувствую — тихо стало вокруг. Оглядываюсь, позади родитель мой. Ребята мигом разбежались, а мне куда бежать? Он подходит этак тихонько и спрашивает: «Это что же за игра?» Будто не знает. «Чика», — отвечаю. «Вот как, а ты покажи мне, как это делается, может, и я с тобой сыграю». «А вот, — говорю, — ничего такого. Ставят и бьют». «А ну, поставь, как надо». Я ставлю, чин чином. «А теперь бить надо?» «Бить», — отвечаю, а у самого поджилки трясутся. Тут он меня берет за загривок, вот так наклоняет и давай лбом о кон наворачивать. Он весь лоб мне о деньги разбил и без сознания домой приволок. Очнулся я, а одна монета, семишник медный, так ко лбу и прилипла, не отодрать… Вот это было воспитание. Те дурные деньги у меня в глазах до сих пор стоят. А вы — «помогать»…
«Как хорошо, что я ничего не сказала про Петину двойку», — думает Тоня.
Внезапно Николай Семенович встает.
— Заходите… Буду премного рад.
И опять на губах усмешка. Наплевать ему, что о нем думает Тоня. Кто она? Девчонка.
Когда Тоня уходит, Николай Семенович стучит в окно, подзывает сына.
— Петька, подай мне сюда дневник.
— Ты меня звал? — спрашивает Тоня.
— Да, звал.
Черная настольная лампа, какие бывают у чертежников, ярко освещает только стол. Остальная часть кабинета в полумраке. Лицо Бориса тоже в тени.
— Я хотел тебя спросить, — говорит он.
— О чем же?
— О том, как быть дальше. Ты думала об этом?
Тоня молчит.
— Я тебя не понимаю, — продолжает Борис. — По-моему, ты даже не сердишься. Может быть, тебе нужно, чтобы я попросил прощения? Могу даже на колени встать. Хочешь, встану? Только это смешно.
— Не надо. Это, правда, смешно.
— Тоня, я никак не могу поверить, что у тебя ко мне не осталось никакого чувства.
Тоня опускается в большое мягкое кресло. Да, поговорить надо. Сколько уже раз она уклонялась от решительного объяснения. Боялась оказать что-то такое, чего нельзя будет поправить. Она все ждала, что что-то изменится.
— Чувства? — Она подыскивает слова. Нужно, чтобы он понял, что именно она чувствует. Но ведь о чувствах так трудно говорить. Если б он сейчас вышел из-за стола, который их разделяет, приблизился, обнял ее или даже только взял за руку… Тогда, может быть, нашлись бы нужные слова. — Чувство осталось, — произносит Тоня с трудом. — Его никуда не денешь… И ты это знаешь. Не так это просто. И думаю о тебе. И просто плохо без тебя. Но все это не так, как раньше.
Тоня умолкает.
— Ну, говори, говори, — просит Борис. — Что же именно не так?
— Я уже не люблю тебя так, как прежде. И, наверно, это от меня не зависит.
— Но что изменилось?
— Все изменилось. Ты вот говоришь: «просить прощения». Дело хуже… Что-то сломалось. Ты считаешь, что все можно починить, наладить… Не знаю… Раньше я верила, что ты честен и смел. И думала: «Что бы ни случилось, ему можно верить». А теперь я уже не могу так думать… И не только со мной, ты и с ней был нечестен. Ты ничего не написал ей обо мне. И она надеялась. Разве это не жестокость? И это же самое заставляло меня думать, что ты хочешь вернуться к ней.