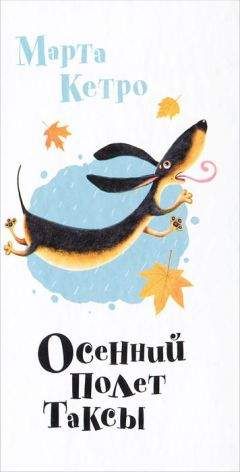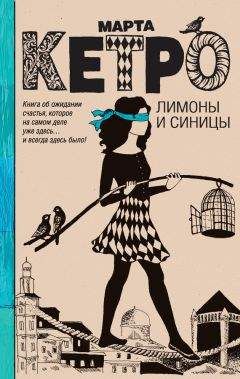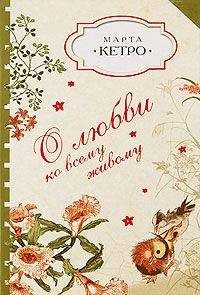– Хороший какой!
– Да только Ленка говорит: «Я бы лучше встала». Официанта дешевле нанять. Он же полгода без работы, вся забота в мелочах и на словах, а она как лошадь, ты бы видела, устаёт до полусмерти, на ней все расходы.
– Ой, девки, не цените вы любовь… Зато твой-то молодец какой.
– Мой молодец, мама.
Какого-то чёрта я не выдерживаю и делаю то, чего не позволяла себе уже много лет, с предыдущего, наверное, брака, – зачем-то рассказываю ей, как у меня действительно обстоят дела…
– …он меня очень сильно разозлил, мама, – заканчиваю я монолог, отчётливо понимая, что каждое слово было лишним, – ладно – не помог, но зачем же скандал этот из-за ерунды? В самый трудный момент.
– Деточка, но ведь он не пьёт? И нету никого?
– Боже, ну конечно. Ещё бы. Он же меня любит.
– Ну да, ну да. Не цените вы любовь-то, вся ваша порода такая.
На неё по-прежнему падает закатное солнце, и глаза становятся совсем как черноморская вода – зелёные-зелёные.
– Папа тоже. Это сейчас он… а тогда приходил с работы, отворачивался и молчал. Я к нему и так, и сяк, а он ноль внимания. Знаешь, сколько я плакала?
– Мама, но он же заботился по-настоящему, он всегда о тебе так заботился, чтобы всё у тебя было.
– А любовь?! Я его любила безумно. Вот и твой… А вы с папой холодные.
– Как же, мама, дорого нам ваша любовь обходится.
Я не хочу её обидеть и замолкаю, но она вдруг улыбается:
– Ага. Такая у нас любовь – удушливая. Что вам от неё удавиться впору, – умница она у меня, мама. И с воображением. Они с папой прожили долгую счастливую жизнь, в любви и терпении, просто маме не хватало эмоций, и до сих пор её иногда подводит воображение. Как и меня конечно же – у меня ведь тоже всё хорошо.
Мне только немного жалко таких, «нашей породы», которые делают, что должны, а потом вдруг слышат: «Ты меня никогда не любил». Или «не любила». Потому что второму всю жизнь не хватало эмоций, а у тебя не оставалось сил погасить его тревогу и накормить чувства. Так глупо: возвращаешься каждый день домой, потому что не знаешь другого дома, а там сидит человек, который уверен, что ты его сейчас бросишь. И ждёт тебя, и его любовь смешивается со страхом и бешенством, и ты для него тот, кто никогда не полюбит. Хоть десять лет к нему возвращайся, хоть двадцать, хоть тридцать пять.
Приезжаю к родителям, а они вторые сутки, с перерывами на короткий беспокойный сон, смотрят «Вечный зов». Я уселась на покойный плюшевый диванчик и тоже давай глядеть.
На экране усатый мужик тискал в редком кустарнике крестьянку – крупным планом дали её томное лицо с небольшими глазами и хорошим таким ртом.
– Шалава, – констатировала мама. – Федька гад, Анфиска шалава, – уточнила она диспозицию.
Мужик тем временем положил большую руку на затылок женщины, под узел накладных русых волос.
«Минет?» – предположила я, но он просто прижал её голову к себе.
«Сейчас грим размажет, придётся поправлять», – со времён краткой работы в кино я внимательна насчёт «гримкостюма», как выражался наш режиссёр.
– Страсть у них, – пояснила мама, – ох, страсти проклятущие, похоть козлиная.
«И у меня такой был…» – Я загрустила и попыталась вспомнить имя какого-нибудь Федьки, мне всегда нравились женатые и вся эта тоскливая сладость экстрабрачной любви. Но последний страховой случай наступил так давно, что я затруднилась. Точнее, за последним я замужем, а это несчитово.
– Подлая, подлая. У самой муж, Кирьян, а она по кустам обжимается. А у этого жена, Анна, красавица такая, хорошая лапушка.
Позже нам действительно показали противного Кирьяна – нет, ну я понимаю его бабу, тот лучше, – и Анну, с готовностью взрыднувшую при комическом упрёке «не девкой взял!».
– Честная она, – поручилась мама.
После чего я отправилась спать – всё это было явно выше моих слабых сил. То есть, уезжаешь в провинцию, рассчитывая отдохнуть от блогов, а тут тебе сообщество «мен-вумен» по телеку транслируют. К тому же выяснилось, что интернеты добрались до замкадья, мои соседи завели незапароленный вайфай, и я предпочла таращиться в телефон – всяко безопасней, потому что мои мысленные ремарки к просмотренному не дай бог озвучить при родителях. Правда, соседи оказались дики настолько, что легли спать в половине первого и отключили роутер (вы способны себе такое представить?), но я от пережитого шока немедленно уснула и проспала часов двенадцать.
Утром застала фигурантов порядком постаревшими. Анна как раз окатывала Федьку презрением и обещала бросить.
– Доигрался, – удовлетворенно сказал папа. Как человек, беспорочно женатый лет сто, он имел право злорадствовать.
Анфиса не отстала и отчего-то внезапно сделалась верна отсутствующему мужу. Тут мы с мамой были единогласны:
– Опомнилась!
– Ему, Кирьяну, на войне ноги отрежут, – наспойлила мама, – а она его найдёт и заберёт.
Тем временем Анна произнесла прекрасное: «Никого ты не любил, Фёдор, – ни сына, ни отца, ни власть нашу Советскую!»
«Ох девка, что за каша у тебя в голове!»
Но мама была на её стороне:
– Всю жизнь ей изломал, гад.
«Чего?! Нет уж, пойду чаю выпью от греха». Я как-то внезапно и неадекватно разъярилась – сначала такая изломает свою жизнь об кого-нибудь, а потом его же и ненавидит. А уйти? И не говорите мне о «временах», мамо, тогда царя свергли и мир к чертям перевернули, и ничего, а мужика бросить, значит, было слишком революционно. Собственно, и Анфиса с Федькой чего тянули? Любовь у них, ха. Что за нравы, что за неуважение к собственной судьбе – в тридцатник они невыносимо несчастны и уверены, что жизнь кончена, а в сорок она у них действительно кончается, там уже дети взрослые и самим жить неприлично. И главное, всё равно же ушла, но попозже, чтобы наверняка остаться с гарантией хронического горя.
Насколько же счастливей связи современных взрослых, которые я наблюдаю там и сям. Флиртуют, путешествуют вместе в европы, тайком милуются в самолётах, проводят ночи в отелях и поездах, закусывая губы только для того, чтобы не будить пассажиров соседнего СВ, а вовсе не от страданий.
Неееет, никогда больше ни одна тварь не втянет меня в безнадёгу. Я не буду жить в несчастливом браке и не буду вступать в несчастливые связи, не для того меня мама такую красивую рожала.
Начала собираться домой, родители приглушили телевизор, дали мне с собой НЗ: красной икры и шоколадок, две «Аленки», «Бабаевскую» и «Вдохновение», и попытались подарить что-нибудь существенное:
– А вот энциклопедию нам в нагрузку к «АиФ» дали, хочешь? Это первый том, можем подписаться на остальные, – предложил папа.
– Не, спасибо.
– Ну да, – брезгливо сказала мама, – зачем. Там факты искажают, и вообще, всё это есть в интернете.
Я как раз рассматривала фоточки к статье «Адыгея» и чуть не прищемила палец, резко захлопнув книжку.
«Мамо, вы что, зачем вам знать этих слов? В интернетах погано, не думайте о них Христа ради».
А мама меж тем вынесла из детской, где я провела ночь, яично-кремовый свёрток:
– Деточка, тут шарфик твой старый, возьмёшь или выбросить, а то моль сожрёт.
– Моль не ест чистейшую синтетику.
– Наша – будет, – с животноводческой гордостью сказала мама, – а я его в «Леноре» постирала.
Шарфик, в самом деле, пах тошной сладостью, но я отчего-то взяла его и не смогла выпустить из рук. В девяностые такие носили и рыночные торговки, и красивые, но бедные девочки, – и тёпленько, и нарядно.
Надевала его давным-давно, убегая на свидания к кому-то любимому и чужому, и через химическую отдушку, я знала, должен пробиваться запах моей тоски, потому что сколько я в нём мёрзла и плакала, так он уже меченый, как туринская плащаница. Если собрать все ветры нелюбви, которые сквозь него продували меня до костей, хватит на маленький смерч, способный снести этот город.
Нет. Больше никогда и никто. А шарфик возьму, чтобы запомнить.
На улице как гадко, господи, вот отчего у них всегда так – в Москве мне достаточно трикотажного платья, тонких колготок и условного дизайнерского пальтеца на лебяжьем пуху, а отъедешь на час, и уже надо ушанку, лисью шубу и штаны с начёсом. Здесь всегда ветер, господи, нигде мне не было так отчаянно холодно. И почему тут всегда снега по ноздри, куда они дели своего лужкова и что станет с моими сапогами? Хорошо, мама заставила надеть носки. Не хочу больше мёрзнуть никогда.
Автобус привёз меня на вокзал, и оказалось, что до электрички сорок минут. На перроне весело материлась какая-то женщина, мужчины были нетрезвы и молчаливы, тонконогая девочка обречённо опускала капюшон на глаза, бабки спокойно пристраивались под железнодорожным мостом, хоронясь, чтобы не просквозило.