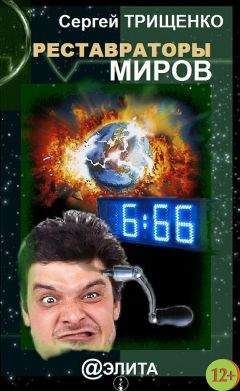Шестое окно… Что бы Ахматова увидела из него сегодня? «Аврору» на приколе. Тогда она «Аврору» не видела, но, думаю, помнила о ней. Ведь на «Авроре» в самую революцию был, по слухам, ее брат – гардемарин Виктор Горенко. Она знала, что офицеров корабля восставшие матросы топили. К счастью, это оказалось всего лишь слухами[44]. Брату Ахматовой удалось избежать смерти, она узнала потом, что он вместе якобы с внуком Льва Толстого Ильей пробрался в Сибирь к Колчаку, потом жил на Сахалине, а затем уехал в эмиграцию. Может, потому Ахматова чуть ли не до старости с некоторым испугом говорила, что брата у нее нет…
Не могла она видеть раньше из шестого окна и телебашни на горизонте. Ахматова, кстати, и в молодости с подозрением относилась к технике: опасалась машин, боялась лифтов. А в 1924-м, как пишет Лукницкий, смеялась над идеей постройки метро в Петрограде и радовалась, что в городе на болоте метро невозможно: здесь «разве что подводные лодки могут ходить». С метрополитеном ошиблась, но интуитивно понимала, куда могут привести все эти технические новшества. Например, один писатель вспомнил недавно ее слова: «Чем скорее летают самолеты, тем более будут оскудевать человеческие отношения, а заодно и поэзия. Исчезнет понятие разлуки, радость встреч и разная другая необходимая человеческая канитель…» Что ж, все это подтверждается ныне – милая «канитель» действительно исчезает.
В 1920-х годах метро даже не планировалось еще и уж тем более не было какофонии вольного телеэфира. Зато было пение марширующих где-то неподалеку красноармейцев, которое, лежа на подоконнике, Ахматова любила слушать. Считала – это единственное пение, где «нет и не может быть фальшивых нот». Через много лет, в Ташкенте, в эвакуации, гуляя с Фаиной Раневской, она, увидев поющих в строю солдат, скажет неожиданно: «Как я была бы счастлива, если бы солдаты пели мою песню». Именно это считала знаком настоящей славы и известности. Но сама, если говорить о стихах, как раз в угловом доме Бауэра и перестала «петь». На долгих шестнадцать лет замолчала…
Вход в квартиру был со двора – тринадцать разрушенных временем ступенек, ныне почти заросших травой. Эти ступеньки да несколько старых деревьев в просторном дворе, думаю, помнят еще женщину в черном шелковом платье, с белым платком на одном плече, в белых чулках и черных туфлях – все «единственное у нее тогда», как писал Лукницкий.
Поперек низких ворот этого дома в наводнение 1924 года лежала выброшенная на берег лодка. «Вода была выше колен, но совсем теплая… так что стало даже приятно, когда промокли ноги… – писал о наводнении Пунин. – Ахматова – очень возбужденная… В газетах сказано, что наводнение – наследие царизма…» Пунин уже не был тем «левым» комиссаром, каким встретился когда-то Ахматовой. О том же наводнении, к примеру, он с видимым удовольствием записывал гулявшие антисоветские шуточки. «Что вы так радуетесь наводнению, – сказал при нем кто-то, – все равно большевиков не смоет…» Идеологические перемены в нем заметил наблюдательный Чуковский, который прямо спросил Ахматову: «Как вы думаете, чем кончится внезапное поправение Пунина?» Ахматова невесело усмехнулась: «Соловками…» И напророчила – он ведь и умрет в лагере…
А другого гостя этого дома – тоже влюбленного в Ахматову – довольно скоро расстреляют. Я говорю чуть ли не о самом знаменитом тогда писателе – Борисе Пильняке. Пишут, он таскал ей сюда дивные корзины цветов, приводя Ахматову в немалое смущение. Женихался, так сказать. Для полной славы ему не хватало Ахматовой в женах. «Пильняк семь лет делал мне предложение, – говорила потом Ахматова, – а я была скорее против». Впрочем, определенные знаки внимания ему оказывала. Скажем, Ахматова не однажды встречалась как раз с Пильняком, наезжавшим из Москвы, у Замятина, с женой которого, Людмилой Николаевной, дружила (Моховая, 36). Сохранилась записка Евгения Замятина к Ахматовой, в которой он просит ее зайти к нему вечером: «Я хоть на час хочу видеть счастливых. Я хочу видеть рядом Вас и его (он только вчера приехал из Москвы)… Он ждет Вас в 5 часов у меня». «Он» в этой записке – именно Пильняк, удачливый и тогда еще баснословно знаменитый прозаик. А когда он приобретет в Америке автомобиль, то машину, доставленную морем, позовет перегнать с ним в Москву как раз Ахматову. И она, представьте, согласится. Через четыре года, когда в печати начнется травля Пильняка и Замятина (первый звоночек для обоих!), слабая, казалась бы, Ахматова принципиально подаст заявление о выходе из Союза писателей – в знак протеста. В.Е.Ардов вспоминал с ее слов, что тогда к ней немедленно приехал какой-то молодой человек – «может, из союза, а может, из других мест… уговаривать ее взять обратно заявление, поскольку эта демонстрация чрезмерно, так сказать, активна». Она призналась, что уже склонялась было взять заявление обратно, но тут молодой человек брякнул: «И потом, вам же будет хуже… Вы не получите продовольственные карточки, не сможете пользоваться там какими-то благами». Вот тогда она и выдала ему про заявление: «Теперь я не могу взять обратно, раз вы так сказали…» И не взяла!
В бывшую квартиру поэта, к тому шестому окну, меня не пустили. Набычившийся охранник в черной форме с иголочки тупо повторял: «Ахматова – не знаю таких. Нет! Не положено, без разрешения не могу». Но и без отсутствующих новых хозяев этого дома я знал, что не найду той узкой комнаты, увешанной иконами; камина, на котором она держала горящей свечу, чтобы было от чего затопить печь; полов, вздувшихся в наводнение и навсегда испорченных. Даже той Невы в окне не увижу, тех волн, которые в то лето унесут навсегда изломанный, изорванный в клочья Пуниным букет левкоев…
Лучше всех сам воздух этого дома описал художник Анненков, давний знакомый Ахматовой. Еще четыре года назад она в квартире какого-то «свитского» генерала, бежавшего на юг, позировала Анненкову для знаменитого портрета – того, где она «с гребнем» (Кирочная, 11). «Это происходило в яркий, солнечный июльский день», – вспоминал он, и Ахматова была одета «в очень красивое синее шелковое платье», которое ей, кажется, тогда прислали из-за границы[45]. А сюда, в дом Бауэра, осенней ночью под проливным дождем Анненков провожал однажды Олечку Судейкину – после вечера в издательстве «Всемирная литература». «Подойдя к подъезду, Оленька предложила мне зайти к ней, посидеть, – вспоминал Анненков, – так как у меня не было ни зонтика, ни непромокаемого пальто. Было около часа ночи, но я согласился. Оленька провела меня в свою комнату. В другой комнате Ахматова была уже в постели, и я ее не увидел… Ливень за окном не унимался. “Ложись на диван, – сказала Оленька, – уйдешь завтра утром, авось подсохнет”. В комнате Судейкиной, кроме ее постели, была еще небольшая оттоманка с подушками. Я снова согласился… Не сняв пиджака, прилег на диван. Оленька подняла с полу небольшой коврик и прикрыла им меня. “Немножко грязненький, но все же согреет”, – сказала она, погасила свет и стала раздеваться, чтобы лечь. Через несколько минут я заснул…»
Утром их разбудила Ахматова. В темном платье и полосатом переднике, она вошла с подносом, на котором были чашки с липовым чаем, сахарин и ломтики черного хлеба. «Принесла ребятишкам покушать, – улыбнулась, – потчуйтесь на здоровье!» И Анненков, и Судейкина засмеялись. Откинув коврик, Анненков встал. Судейкина присела на постели, прикрытая одеялом. Ливень кончился, сквозь оконные шторки светило солнце. Ахматова поставила поднос на одеяло и ела на край кровати. «Я придвинул стул, – пишет Анненков, – и – втроем – мы весело позавтракали…» Через полвека, в Париже, Анненков хлебосольно «отплатит» Ахматовой уже обедом, мешая его, впрочем, с горькими слезами воспоминаний…
Да, двое из этих троих уже осенью окажутся в эмиграции: сначала Анненков, потом Ольга. Этот дом на углу Фонтанки и Невы я вообще называю «домом расставаний». Единственным, вероятно, исключением была завязавшаяся здесь на всю жизнь дружба Ахматовой и Надежды Мандельштам. Последняя не без ехидства опишет позднее и секреты обольщения, по Ольге Судейкиной, и ее приемчики: «Тряпка должна быть из марли – вытереть пыль и сполоснуть… Чашки тонкие, а чай крепкий… Темные волосы должны быть гладкими, а светлые следует взбивать и завивать. И – тайна женского успеха по Кшесинской – не сводить “с них” (с мужчин. – В.Н.) глаз, глядеть “им” в рот – “они” это любят…» Надежда Яковлевна не раз наблюдала здесь эти «маневры». «Оленька… стучала каблучками, танцующей походкой бегала по комнате, накрывая стол к чаю, смахнула батистовой или марлевой тряпочкой несуществующую пыль, потом помахала тряпкой, как платочком, и сунула его за поясок микроскопического фартушка… Подав чай, Ольга исчезала, чтобы не мешать разговору, – пишет Надежда Мандельштам, – Характер своей подруги она изучила: Ахматова, когда приходили гости, всегда выставляла своих сожительниц из комнаты, чуть не хлопая перед их носом дверью…» Кстати, именно Н.Мандельштам утверждала, что Ахматова, «равнодушная к выступлениям, публике, овациям… почестям, обожала аудиторию за чайным столом… Я говорю: “Ануш, там идут к нам”, – и она спросит: “Что, уже пора хорошеть?” И тут же – по заказу – хорошеет»…