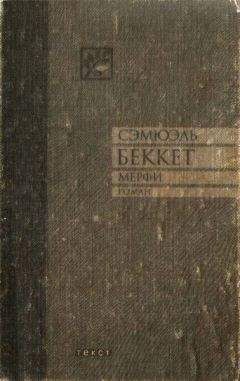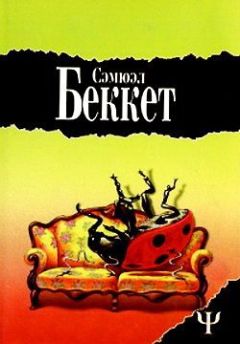Мерфи возмущало, что Сук приписал этот странный талант исключительно положению Луны в созвездии Змеи в момент его рождения. Чем более смыкалась вокруг него его собственная система, тем невыносимее становилось для него ее подчинение чьей-либо чужой. Между ним и его звездами несомненно существовала связь, но не в том смысле, который имел в виду Сук. Это были его звезды, первичной системой был он. В тот прискорбный час темной личинкой он был спроецирован на небо, как на экран, крупным планом, высветившим для него его собственный смысл. Но это был его смысл. Луна в созвездии Змеи была не более чем образом, фрагментом витаграммы.
Таким образом, клочок неба за шесть пенсов опять изменился, став вместо поэмы, которую мог написать он один из всех ныне живущих, поэмой, которую он один мог бы написать из всех рожденных. Что касается статуса небесных светил в качестве предсказателей, Мерфи стал заядлым приверженцем претерита[67].
Получив поэтому впервые возможность наблюдать in situ «великую магическую силу глаза, воздействию которой легко поддаются душевнобольные», Мерфи с удовольствием отмечал, как прекрасно она согласуется с тем, что ему уже было известно о его идиосинкразии. Его успех у пациентов был, наконец, вехой на пути, которым он так долго шел вслепую, не имея иной поддержки, кроме убеждения, что все остальные пути ведут не туда. Его успех у пациентов был вехой, указующей путь к ним. Он означал, что они чувствовали в нем то, чем они были прежде, а он в них — то, чем он будет. Он означал, что его жизненная удача могла увенчаться никак не менее чем роскошным психозом. Quod erat extorquendum[68].
Мерфи казалось, что из всех его друзей среди пациентов ни один не мог бы сравниться с его «подопечным» — мистером Эндоном, его «подопечным». Мерфи казалось, что он связан с мистером Эндоном не только тем, что тот его подопечный, но любовью самого чистейшего рода, какой только возможен, избавленной от скоропалительных выбросов мыслей, слов, дел, свойственных большому миру. Даже когда они, как казалось Мерфи, глубочайшим образом сливались воедино духом, они оставались друг для друга мистером Мерфи и мистером Эндоном.
«Подопечным» назывался пациент, помещенный «в свиток» (или «под надзор»). Пациента помещали в свиток (или под надзор), как только возникал случай заподозрить его в серьезных склонностях к самоубийству. Таким случаем могли быть угрозы, произнесенные пациентом, мог быть и просто общий характер его поведения. Тогда на его имя выписывалась табличка с указанием — в тех случаях, когда было высказано то или иное предпочтение, — формы замышляемого самоубийства. Например: «М-р Хиггинс. Вскрытие живота или любой другой доступный способ», «М-р О’Коннор. Яд или любой другой доступный способ». Выражение «любой другой доступный способ» исключало иные оговорки. Затем табличка передавалась старшему медбрату, который, расписавшись, передавал его одному из бывших в его распоряжении медбратьев, который, расписавшись, начиная с этого момента впредь нес ответственность за естественную смерть названного бедолаги. Среди особых обязанностей, проистекающих из такой ответственности, главной была, пожалуй, регулярная проверка подозреваемого, с промежутками не долее двадцати минут. Ибо по опыту Приюта милосердия лишь самым искусным и решительно настроенным было по силам провернуть это меньше чем за такое время.
Мистер Эндон был занесен «в свиток», и Мерфи получил свою табличку: «М-р Эндон. Апноэ (остановка дыхания) или любой другой доступный способ».
К покушению на самоубийство посредством апноэ прибегали часто, особенно приговоренные к смерти. Тщетно. Это физиологически невозможно. Но в Приюте милосердия не были расположены идти на ненужный риск. Мистер Эндон настаивал, что если он когда-нибудь вообще совершит самоубийство, то только посредством апноэ и никак иначе. Он говорил, что его голос и слышать не желал о других способах. Но доктор Килликрэнки, член Кор. мед. службы родом с Внешних Гебрид, поднаторел в делах с шизоидными голосами. Такой голос не был похож на реальный, в данный момент он говорил одно, а в следующий — что-то совершенно другое. Не был он и вполне убежден в отношении невозможности самоубийства посредством апноэ. Доктора Килликрэнки слишком часто обводила вокруг пальца изобретательность органической материи, чтобы он когда-нибудь еще стал проводить черту Канута.
Мистер Эндон был шизофреник самого приятнейшего рода, по крайней мере, с точки зрения целей такого смиренного и ревностного человека, не принадлежащего к кругу избранных, как Мерфи. Состояние покоя, в котором он проводил свои дни, хотя время от времени и углублялось до такой степени, что какой-нибудь жест мог надолго очаровательно застыть, никогда не становилось столь бездонным, чтобы подавить всякое движение. Его внутренний голос не произносил ему речей, он был спокойный и мелодичный, нежный continuo[69] в согласии с целым сонмом его галлюцинаций. Эксцентричность его поз никогда не переходила границы изящества. Короче говоря, психоз столь ясный и невозмутимый, что Мерфи тянуло к нему, как Нарцисса к его источнику.
Его маленькое тело отличалось совершенством во всех своих частях и чрезвычайной волосатостью. Очень тонкие, правильные черты его лица были обворожительны, цвет лица оливковый, за исключением тех мест, где из-за бороды оно отливало синевой. Над черепом, большим для любого тела, а для этого громадным, вздымалась шапка жестких черных волос, разделенных на темени широкой ослепительно белой прядью. Мистер Эндон никогда не одевался, а слонялся по палатам в великолепном халате из алого виссона[70], отделанном черной тесьмой, черной шелковой пижаме и остроносых неомеровингских туфлях цвета густого пурпура. Его пальцы, унизанные кольцами, сверкали. В своем маленьком кулачке он крепко сжимал окурок великолепной сигары, различной — в зависимости от часа — длины. Мерфи зажигал ее для него утром и продолжал зажигать на протяжении всего дня. Однако вечером она все еще оставалась недокуренной.
То же самое и с шахматами, единственным легкомысленным занятием мистера Эндона. Утром Мерфи, как только он появлялся, расставлял фигуры в тихом уголке «развалин», делал первый ход (так как он всегда играл белыми), уходил, возвращался ко времени ответного хода мистера Эндона, делал второй ход, уходил и так далее весь день напролет. Они редко встречались за доской. Самое большое на одну-две минуты позволял себе задержаться мистер Эндон в своих скитаниях, но и это было дольше, чем осмеливался урвать Мерфи от своих обязанностей под зорким наблюдением Бома. Каждый из них делал свой ход в отсутствие другого, обозревал в оставшееся время положение на доске и уходил. Игра тянулась таким образом до вечера, когда обнаруживалось, что она чуть ли не в столь же равном положении, как и вначале. Это проистекало не столько из равенства сил в этом матче или неблагоприятных условий игры, сколько из весьма фабианских методов, которым следовали оба. Как несуществен был в действительности исход, можно судить по тому обстоятельству, что после восьми-девяти часов таких партизанских действий случалось, ни один из игроков не потерял ни единой фигуры и даже ни разу не объявил сопернику шаха. Это доставляло удовольствие Мерфи как выражение его родства с мистером Эндоном, отчего он проявлял еще большую — если это возможно — осторожность, чем то было свойственно его природе, воздерживаясь от атаки.
В восемь часов, когда ему нужно было покидать палаты мистера Эндона и других, не таких больших друзей и не такие совершенные экземпляры, тепло и запах паральдегида, чтобы провести двенадцать часов лицом к лицу с собой, своим неискупленным, расколотым «я», сейчас более, чем когда-либо, представлявшим лучшее, на что он способен, и менее, чем когда-либо, дотягивавшим до того, что достаточно хорошо, ему было жаль себя, очень жаль. Конец зачеркивал путь, обращая его в средство, в монотонную скуку. Однако Мерфи был вынужден приветствовать это слабое предвестие конца.
Чердак, духота, сон — вот то жалкое лучшее, на какое он способен. Тиклпенни отвинтил лестницу, так что теперь он мог втаскивать ее за собой. Не спускайся по лестнице, ее унесли.
Он больше не видел звезд. Возвращаясь из Скиннера, он всегда смотрел в землю. А когда было не так холодно, что на чердаке нельзя было открыть окно, звезды всегда казались затянутыми облаками, или туманом, или изморосью. Прискорбный факт состоял в том, что из его слухового окна открывался вид лишь на самый унылый участок ночного неба, угольный мешок галактики, который любому наблюдающему звезды в тех же условиях, что и продрогший, усталый, сердитый, охваченный нетерпением Мерфи, разочарованный в системе, выглядевшей гротескной карикатурой его собственной, естественно показался бы картиной ночного ненастья.