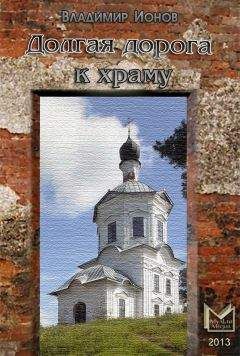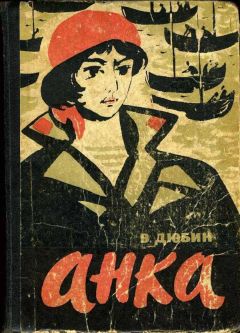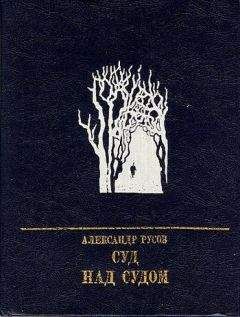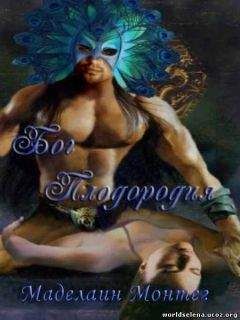— Прощайте, мужики, ребята. Бабы прощайте. Через три годочка, бог даст, свидимся. «Партизана» мне до встречи берегите, не обидьте его тут чем. — Нахлобучил шапку, круто обернулся и пошел догонять своих и конвоира. Анка поймала его за голое место руки, которое осталось между коротким рукавом ватника и карманом брюк, куда втиснул он сжатый кулак, и ее будто подхватило, понесло воздухом. Она сбивалась с шага, запиналась о свои же ноги, но не отпускала отцовой руки. У нее не спросишь, про что она сейчас думает, она еще сама не знает своих мыслей, единственное, чего она хочет теперь, не оторваться бы от руки, не отстать бы. Вот уж они и мать обогнали, и чужого этого дядьку, который подмигивал ей, когда она горсть гвоздей держала на дворе, а отец все вышагивает и вышагивает.
— Тятька Егор, обожди, я задохлась, — сказала Анка, когда они минули скотные дворы, и она увидела, что они ушли так далеко, что она еще тут и не бывала…
Егор вынул руку из кармана, и Анка едва не отцепилась от нее, однако удержалась, потащилась дальше. Мать неладно одела ее, и чулки совсем уползли в валенки, голенища хлопали по голым ногам, и платок сбился, мешал смотреть.
— Возьми на закукры, тятька Егор, а то отцеплюсь, — еще раз запросилась Анка.
Егор поднял ее, но не на закукры, как поднимал всегда, а оставил на руках. За отцовским плечом Анка увидела мать, которая обогнала милиционера, а их догнать не могла, видела, как милиционер сбил на затылок шапку и расстегнул шинель. Хорошо ей было на отцовских руках, хотя и тесно от них. Отец шел быстро, и Анку чуть потряхивало при его шагах.
Они минули поле и теперь шли кустами, за которыми было немного больших деревьев, а потом глубоченный обрыв до самой реки. Егор не говорил с Анкой. Он только нес ее и чувствовал легкий ее вес и как трепыхается она от его шагов. Думал ли он сейчас о ней или о Елене? Наверное, нет. Была какая-то другая мысль, более широкая что ли, — обо всем сразу. Это в городе семья зовется семьей, квартира — квартирой, а в деревне все — и семья, и дом, и скотина на дворе — все называется хозяйством. Вот об этом большом, о хозяйстве, и была у него мысль, путаная и больная. Мысль эту можно было нести и дальше, раздувать, чтобы не пропадала. Но ему скоро надоела эта канитель. Припомнилась длинная, вечно помятая какая-то, потертая рожа «партизана». Хотелось Егору, чтобы и он вышел на проводы, чтобы вынес из дому стопку и сказал на прощание: «Подвел я тебя, сосед, под месячник, мать его так-то! А все она, матушка, виновата, не добром ее делали!» — и чтобы он, Егор, бросил стопку невыпитой и ногой по ней топнул. Но не вышел, хмырь, на народ, так, видать, и трезвел после суда, из-за занавески глядел.
Анка напекла Егору грудь до того, что все заныло в ней. У поворота размокшей тропки, где открывалась вся глубина обрыва, он отпустил дочку на ноги.
— Тяжелая ты выросла. Заморила тятьку, гляди. Бегай к матери, пущай она поведет тебя маленько, а дядьке скажи, чтобы догонял.
— Мне бы с тобой охота, — ответила Анка, пытаясь вылезти из съехавшего платка.
— Мало ли! Мне вот идти не больно охота, да надо если!
Он легко подтолкнул Анку назад по тропке, а сам повернулся к обрыву. Крутая до головокружения глубина, и зимой не закрытая снегом, уже оттаяла, отмокла и темнела глиной, пропластанной меловыми слоями. Снег держался только внизу, где было крошево деревьев, сорвавшихся с оползнем в непривычную для себя близость к воде. Егор, видевший прошлым летом самый момент обвала, слышавший его гул, дрожание земли и хруст обрывающихся корней, тогда зайцем стреканул в сторону и крикнул то ли в страхе, то ли в восторге от этой ломки земли: «Эх, мать твою, вота крошит-то!» А теперь он аж задохнулся, едва помыслив, что если бы сейчас так-то!? Он представился себе деревом, зеленеющим среди других, подумал как бы в нем сначала замерли все соки, когда с корней пошла осыпаться земля, а потом как бы ему легко было срываться вниз, лететь, лететь — только бы листва полоскалась на ветру, и как бы тяжко потом пришлось врезаться в землю, ломаться об другие деревья и их ломать. Зато бы соки уходили легко и тихо.
Егор поворочал плечами, почувствовав, как отсырело у него между лопаток. И теперь, уже представив сорвавшимся с обрыва себя, подконвойного, скривил улыбкой щеку: вот бы Сапунов-то встряхнулся, а то тягомотный какой-то.
Сапунов уже догонял Елену, когда по тропинке выбежала навстречу Анка.
— А отец где? — спросила Елена, поправляя на дочке платок.
— Там, — сказала Анка. — На реку глядит, — и показала рукой почему-то не на кусты, а вниз, под обрыв как бы.
— Как на реку глядит, где? — не поняла Елена. — Господи, как глядит?
— Как глядят, так и глядит. Ноги у девки голые, без чулков пустила? — сердито спросил Сапунов и не остановился, пошел по тропке. В кустах он сначала еще поддал шагу, потом тяжело побежал: всякого жди от Колова, ума хватит, так на реку глянет, что век не просохнешь.
Егор слышал, как бежит к нему Сапунов. «Во сандалит, как паровоз! — подумал он. — Погоди, на станцию придем…» — Ему стало весело от того, как придумал напугать конвоира. Можно бы и сейчас ступить на короткий обломок корня, торчавшего в кромке обрыва, но тут и одночадных с ума сведешь.
— Ну, чего? — подбежал Сапунов. — На реку глядим? — И сам заглянул вниз. — На-ко, высота какая. Тут юркнешь, и костей не собирай — измелются. Дерева-то как измололись…
— Я видал, как оползень шел. Шибко! А ты запыхался-то чего? Думал, сбегу?
— Да ведь кто тебя знает — бесшабашная башка-то. Тут ступи вон хошь на тот корешок, и поехал в самоволку, а то и в бессрочную. Вон там чего делается! Слыхал я, что оползень у вас сошел, а и представить такого не мог. Шибко!..
— А что я на корешок ступить хотел, представил?
— А что не представить-то? Вот, поди, подумал, что Сапунов, как клуха по берегу забегает, закудахчет. А у жены разрыв сердца случится — это тебе хоть бы что.
— Да нет, я как раз про жену и подумал, — признался Егор.
— Умнеешь потихоньку. На пользу месячник-то?! — впервые за день повеселел Сапунов.
Они шли рядышком и не больно торопились, чтобы Елена с Анкой догоняли, и глядели, как оползень постепенно сходит на нет, как выполаживается, и сереет впереди талым снегом берег.
Елена с Анкой догнали их, когда до станции осталось ходу только с покатого поля. В сырых сумерках уже чернела полоса станционных путей с двумя разъездами, с дощатыми станционными строениями. Елена протиснула свою руку под руку Егора, прижалась к нему плечом и то ли от того, что жалела его и себя, то ли от усталости, тоненько проговорила:
— Егор, ты мой Егор…
Он тронул ее вспотевшую щеку, но тут же скрипнул зубами, чтобы она не больно-то ластилась тут напоследок, не травила душу ему и себе. Анка прицепилась с другого боку, и они пошли по слякотной тропке покатого поля.
На станции вдоль всего короткого вокзальчика толкался народ. Над народом висели электрические часы, а пониже часов стыл на воздухе колокол с обтрепанной веревкой у языка. Сапунов отвел Егора в сторонку, велел Елене приглядеть за ним, а сам пошел к начальнику станции, чтобы ему определили место в вагоне. Вернулся быстро с какой-то бумажкой в руке, свернутой в трубочку, но близко к Егору не подошел — чуток времени осталось, а им, поди, есть еще что сказать друг дружке.
Елену все клонило к мужу. И стыдно бы вроде при людях на мужике виснуть, чай, не молоденькие уже, да ничего не могла с собой поделать.
— Ты вот чего, Егор… Ох, мама родная, одна-то я как же теперь!
— Опять? — окоротил он ее.
— Все-все… Да, Егорушка, ты первым делом пиши, как приехать к тебе, чего привезти? Анку живо соберу, приедем. А с хозяйством я управлюсь. Мне чего теперь? Только — хозяйство. — Она вдруг отцепилась от Егора, метнулась к Сапунову, сжала ему обшлаг рукава. — А если бы нам с ним доехать? Проводить бы?
Сапунов не ждал такого оборота. Что до утра Егора нельзя оставить дома, это он знал — самоволка будет. А уж если до станции она его проводила, так почему же дальше нельзя? Он развел руками, поглядел на Егора, чтобы тот помог ему решить дело.
— Мать! — громко окликнул Егор Елену. — Сюда поди!
— Дак, как бы нам, а? — спросила она еще раз и попятилась назад, чтобы не ослушаться мужа.
В это время на отшибе станции переменился свет с зеленого на красный, звонко, до боли в ушах звякнул колокол, народ замельтешил возле путей.
— К четвертому вагону пошли, — сказал Сапунов Егору и тут же объяснил Елене, что бумажка-то у него только на двоих выписана, а билеты уже не возьмешь. Как бы поезд-то опаздывал, а то ведь точно идет.
— А может, он опоздает еще?
— Да вон уж он. Гляди, фара светит.
Елена и оборачиваться не стала, спиной услышала поезд.
Егор присел на корточки, поцеловал Анку, наскоро лобызнул Елену, заложил руки за спину, сцепил пальцы и пошел к тому месту перрона, где должен остановиться его вагон. Елена охнула, увидев, как Егор стиснул пальцы на пояснице. Он никогда так не делал прежде, и это значит, что разлука их уже пришла, вон она катит с ярким светом во лбу, катит ровно по времени и везет Егора из минуты в минуту. Мимо нее, мимо Анки, мимо Сапунова и Егора, сдерживая тяжелый ход, прокатились большие колеса с красными ободьями, потом пошли колеса совершенно черные — эти уже медленнее. Затолпились, затолкались спереди и сзади какие-то люди. Елена подхватила Анку, стала сама толкаться, стараясь не отступиться от стриженого затылка, заметного над толпой. Опять звякнул колокол, теперь в два больных удара. Егор впереди поднялся на подножку, коротко махнул ей рукой, кажется, подмигнул ей даже и скрылся в вагоне. Она побежала к тому месту, где только что видела Егора, но натолкнулась на одного Сапунова. Тот снова сворачивал свою бумажку в трубочку и чего-то говорил проводнице, которая, не слыша его, смотрела вперед на паровоз и держала наготове желтый флажок, тоже свернутый трубочкой.