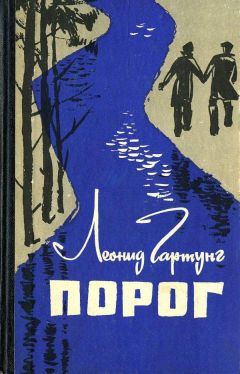До чего же хорошо жить! Он шевелит правой рукой. Больно, но он чувствует все пальцы. Вот один, вот другой… Все пять. И на левой все пять. Хорошо иметь на руках все десять пальцев.
— Проснулся, хлопчик?
— Проснулся, — говорит Петя.
Он улыбается и чувствует свое опухшее лицо. Оно словно картонная маска, оно все мокрое от гусиного сала. Это старуха раздобыла и мажет. Она добрая. Валенки и шапку его куда-то унесла, так это не со зла. Она боится, что он убежит. А ему бежать никуда не хочется.
— Не закалел?
— Нет.
— А я, старая, совсем памяти решилась. Трубу на ночь не закрыла. Просыпаюсь утром — в избе, как на улице. Ну, думаю, мой хлопчик закалел. Тулупом тебя укрыла.
Замечательная старуха. Самое замечательное в ней то, что она ни о чем не расспрашивает. Она даже не спросила, как его звать. Хлопчик да хлопчик и все.
Петя сидит на лавке у окна. Окна низкие. Внизу морозные узоры. Вверху чистые просветы. Видна дорога. Редкие жерди поскотины. Через дорогу темные большие ели. На ветвях снег. Снег все ярче голубеет. В небе бледная уходящая луна. Это тоже жизнь… Хорошо.
По дороге трусит мохнатая, запряженная в сани лошадь. Морда у нее белая. Закуржевела. На санях бастрик, вилы. Кто-то лежит, подняв широкий воротник тулупа. И снова дорога пуста.
Вот так бы и жить. Без школы, без уроков.
Старуха зовет поснедать. Петя смотрит на руки старухи, они морщинистые, узловатые, с изработанными, распухшими суставами. Кожа на них, как коричневая перчатка, которая велика.
Старуха прижимает круглую буханку хлеба к груди и отрезает ломоть тонким источенным ножом. Такого хлеба Петя никогда не ел. Он удивительно душистый. В нижнюю мучнистую корочку впечатался уголек. А верхняя — румяная, гладкая.
Петя тянет суп из деревянной ложки. Губам больно. Они в трещинах. Картошка, пшено и ломтики копченой рыбы.
— Ешь, хлопчик!
Хлопчик ест. От такого супа за уши не оттянешь.
— Вы, бабушка, одна живете?
— Одна, как есть одна.
— А свои у вас есть?
— Муж был да братья. Их Колчак еще в гражданскую побил. Сын Андрей с этой войны не пришел. Я, как похоронную по нем получила, в уме мешалась. В тайгу убегала. Девять ден где-то пропадала. Не приведи бог. А потом отошла.
— Как же вы, бабушка, живете?
— Много ли мне надо? Пенсия у меня от колхозу. Огород. Корову не держу. Тяжело. А моложе была, держала. Курочки вот у меня.
— Скучно, наверно?
— Когда и скучно, всяко бывает.
Старуха садится прясть. Петя ходит неслышно в шерстяных носках, заглядывает во все углы. Старуха спрашивает:
— Ты что шарашишься? Может, не наелся?
— Нет ли у вас книг, бабушка?
— Чего нет, того нет. Грамоты я не знаю.
— Вы не учились?
— Не пришлось. Маленько начинала, правда. Жил у нас старик один. Из ссыльных. Ясный такой. Никого у него не было. Он учил, кто хотел. И я к нему бегала. Совсем еще девчоночкой была. Буквы узнала. А потом отец запретил. Ни к чему, говорит, голову забивать.
— Как это — ни к чему?
— Раньше вся жизнь в хозяйстве была. Круглый год без раздыху. По весне чуть проталины откроются — дрова резать, потом сеять, потом дрова возить, а тут покос, полоть надо, огороды, рыбу ловили, жали, зимой молотили, пряли, кто способный, охотился. А женски больше со скотиной. Скотины помногу держали. Из-за нее и жизни не видели. Теперь-то жизнь легкая — ребятишки работы не знают, учатся…
Приходит молоденькая фельдшерица. Блондинка, пахнущая морозом, румяная, точно в таких же бурочках, какие оставил Петя в Полночном. Под шубой у нее белый халат.
— Ну, как дела?
Она почему-то смущает Петю, но ему приятно, что она пришла.
Фельдшерица осматривает лицо, руки и остается довольна.
— Есть насморк? Кашель?
Ничего этого у Пети нет. Фельдшерица уходит, оставив стрептоцидовую мазь. Старуха прячет ее в буфет.
— Бог с ней. Коли б гусиного сала не было…
Петя ложится на кровать. «Я живой», — думает он и радуется.
Старуха крутит веретено и поет. Слов не понять. Поет она для себя. Неожиданно Петя засыпает. Снится ему Антонина Петровна. Она вызывает его к доске. Он хочет выйти и вдруг замечает, что на нем ничего нет. Он совершенно голый. В классе раздаются чьи-то чужие голоса. Нет, не чужие. Знакомые. Но чьи же?
Петя открывает глаза. Хмелев помогает матери снять шубу. Петя поворачивается на спину и смотрит в потолок. Ну, сейчас начнется…
Старуха приносит откуда-то из сеней шапку и валенки. Кладет их на шесток печи.
— Пусть согреются.
Петя говорит:
— Я не поеду.
— Как можно не ехать? — спрашивает мать, и по голосу Петя догадывается, что она сейчас будет плакать.
«Только и умеет, что плакать», — думает он.
— Вы что, меня свяжете? — спрашивает он.
Старуха фартуком вытирает глаза.
— А кому он здесь мешает? Нехай живет. И учиться ему есть где. У нас школа…
— Как можно не ехать? — опять спрашивает мать.
— Я советую вот что, — говорит ей Хмелев. — Вы поживите здесь. Ему все равно ехать сейчас нельзя. А потом…
— И потом не поеду, — опять говорит Петя.
Хмелев подходит к кровати.
— Того, что было, больше не будет. Ты даже не думай. Даю тебе слово. Мне-то ты веришь?
— Вам верю, — говорит Петя.
Степан Парфеныч чуть навеселе. В руках у него новое двуствольное ружье. Навстречу ему Митя и Генка. Они проходят мимо. Он окликает сына:
— Митька!
Митя останавливается.
— Ну чего?
— Хошь стрелить?
Конечно, Мите хочется. Но он сомневается. Отец почти насильно сует ему в руки ружье.
— На, спробуй.
А как не попробовать? Уж больно хочется. Да и пьян отец не сильно. Так, самую малость. Стопочку выпил, не больше.
Митя держит ружье в руках. Он ощущает запах ружейного масла, запах порохового дыма — едкий, волнующий запах. Поглаживает синие вороненые стволы. Эх, ему бы такое.
Митя прижимает приклад к плечу. Мушка ползет по небу. Вершина сосны. Ветка. На ней шишка. Удар. Вспышка пламени. Шишки как не бывало. Только покачивается ветка. Хорошо! Митя ощущает себя почти взрослым, почти мужчиной. Сердце часто-часто бьется.
— Ну как?
— Крепко бьет.
Отец смеется. Видны его редкие гнилые зубы.
— Пусть и дружок твой стрелит.
Генка возвращает ружье.
— Да, это ружье.
Отец посматривает на сына с хитрецой:
— Тебе купил.
Ах, вот оно что… Ружье — приманка. Митя мрачнеет.
— Генка, отдай.
Генка возвращает ружье.
Ребята уходят. Степан Парфеныч со злостью выбрасывает гильзу. Заряжает снова. Вот сорока. Уселась на жерди. Кричит что-то — созывает подруг. Дура. Вот она на мушке. Выстрел. Перья и кровь на снегу.
Митя сидит за столом неестественно прямо. Он никак не может привыкнуть, что перед ним отдельная тарелка, нож и вилка. Эти двое, хоть и хорошие люди, а все же смешные. Муж и жена, а едят поврозь. Ему тарелочка и ей тарелочка. И каждый своей вилочкой клюет. И Мите такую же тарелочку ставят. Ему непривычно и аппетит отбивает. То ли дело с Егором. Огромную миску щей вдвоем деревянными ложками выхлебают, затем умнут сковороду картошки с салом. Без всяких тарелочек. Что останется, Митя коркой подберет, и посуды мыть не надо.
И вообще Мите здесь неловко. Он догадывается, что мешает. Раиса нет-нет да и забудется:
— Милый…
Хмелев покажет глазами в сторону Мити. Только покажет, а у нее уже другой голос. И вспыхнет вся, застыдится.
Любопытная штука — любовь.
— Что не ешь?
— Я ем.
Митя дожевывает котлету. Вчера забежал домой. Егор столярничает. Стружки. Запах смолы. Ой, хорошо! А он здесь сидит, сложа руки, как барин. Нет, нельзя ему здесь жить. Дома выдалась свободная минута — к верстаку. А здесь что? Книжки читать? Ну, прочел одну, другую, а дальше что? То ли дело взять в руки фуганок. Он длинный, тяжелый. Так и просится вперед бежать. Или новый шлифтик — стружечку берет ай да ну, словно шелковинку, сквозь нее читать можно.
Да, здесь он все равно не жилец. Лес для дома уже привезли. Летом они с Егором сруб закончат, а потом — столярная работа. Она на нем, на Мите. Егор столярничает кое-как. У него терпения не хватает, и дерева он не любит. Для него что топором, что рубанком. Он и стамеску держит в руке как топор. У него сила. А разве тут сила нужна?
Антонина Петровна говорит: «Рисуй, у тебя способность есть». Рисовать занятно, конечно, да только это для себя. А художником Мите не быть. Митя станет плотником и столяром. Разве плохо: идешь по улице, и по правую руку, и по левую — новые дома. Кто их строил? Дмитрий Копылов. Сразу видно. Этот не схалтурит… А мебель взять? Из березы как ладно можно сделать! Вон старик Гуцан из латгальцев. Не столяр — художник. Так сработает — глаз не оторвешь. У него весь инструмент им самим по своей руке сделан. Он как объяснял: «У меня видишь, ладонь какая? Вроде подушечкой и широкая. А у тебя ямочкой. По руке и инструмент нужен». Когда-нибудь и Митя сделает для себя полный набор инструментов по своей руке. Ручки для долот и стамесок выточит из корня березы. Есть подходящие на гриве. Древесина витая.