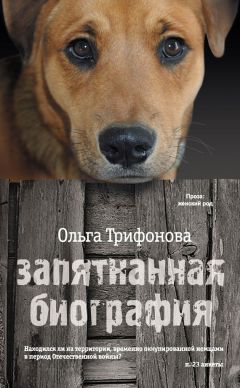«Ой, что это! Какая гадость. Как можно это фотографировать». Красная надпись: «Фаллоэндопротезирование».
— Положи проспект на место, что ты все хватаешь, и почему ты взяла на себя право…
— Потому что ему больно, я видела.
— Ты не груби, пожалуйста. Я старше тебя.
«Как странно она смотрит на него, потом на меня. Как будто видит землетрясение».
— Я пойду?
— Да. Пожалуйста, Ирма Яковлевна. Вы свободны.
Я тоже поднялась.
— А ты подожди, с тобой разговор не окончен.
Что-то во мне вздыбилось: «Не хочу выслушивать нравоучения, не хочу, не могу, не стану».
— Я ведь нарушила ваш приказ, и меня полагается уволить, исполняйте свой долг.
Зариня даже головой дернула от возмущения моей наглостью, как лошадь — снизу вверх. А он ничего, вроде улыбнулся даже, против света не разберешь.
— Сядь. И без истерик. Я свой долг знаю, а вот ты — нарушаешь. Ты ведь не знаешь, к каким последствиям может привести твоя филантропия.
— Можете меня уволить.
— Я не о тебе беспокоюсь, а о больном. У него может начаться кровотечение, коллапс. Ты знаешь, что такое коллапс?
Зариня медлит уходить. Ей трудно уйти от него, очень трудно. Я знаю, как это бывает, сама вот так стояла ненужной свидетельницей. Но характер не моему чета, взяла со стола сигареты, мимо меня — чуть не задев плечом, к двери. Задержалась, сказала настырно:
— Вы зайдете в отделение посмотреть больную?
— Ту, что с пеллагрой?
— Да.
— Обязательно. Мне вчера не понравился снимок, видимо, трансплантат некачественный.
— Видимо.
Ворошил на столе бумаги, отыскивая что-то. Обо мне как будто забыл, но вдруг спросил неожиданное:
— Что с тобой происходит?
— Ничего.
— Не расслышал, говори громче.
Я хрипло повторила:
— Ничего не происходит.
— Откуда ты здесь взялась?
— Из Москвы.
— Ты же говорила, что живешь в деревне.
Помнит, значит. Что ж с черникой придуривался, а он словно угадал:
— Ты извини меня за утренний инцидент, я не очень в себе был, летальный исход…
— Разве вы не привыкли?
— К этому привыкнуть нельзя. А где черника?
— Не знаю.
— Ну и дурочка. Она сейчас на рынке по тридцать копеек за стакан. Тебе деньги нужны?
«Странный вопрос. Ну если нужны, так что? Повысишь мне зарплату?»
— Я не случайно спрашиваю. Мне нужно в доме прибраться. Там пылью все заросло.
«Поздравляю! Есть шанс стать поденщицей».
— Но так, чтобы ни одну книгу, ни один листочек с места не сдвинуть. Во всяком беспорядке есть свой порядок. Сможешь?
— А когда?
Посмотрел долго, видно, соображал, когда удобнее, но сказал опять неожиданное:
— Странная ты. То взъерошенная, то прибитая какая-то. Тебе нужно спросить, сколько заплачу.
— Сколько?
— Пятнадцать, нормально?
— Пятнадцать! Очень даже нормально.
— Там работы много, — охладил мою радость.
— Пускай.
Опять посмотрел долго. Хитрый. Ему удобно меня разглядывать, а у самого лицо в тени, загородил своими огромными плечами все окно.
— Сделаем так. Я дам тебе ключ, скажу адрес. Тряпки там, ведра всякие в ванной, разберешься сама. Кончишь работать, поешь. В холодильнике найдешь, что нужно. Ключ оставишь снаружи под ковриком. Поняла?
— Поняла.
— Это в Юрмале. Знаешь Юрмалу?
— Знаю.
— Станция Меллужи, — взял из коробки квадратик бумаги, написал адрес, — это дача.
Отодвинул ящик стола, протянул ключ с брелоком:
— Держи.
Подошла, взяла.
— Я после работы сразу.
Окликнул от двери:
— А деньги?
— Может, вам не понравится. Может, я листок сдвину какой-нибудь.
— Избави тебя Бог. Чтоб ни на миллиметр.
Затрещал селектор, он глазами показал: «Подожди», снял трубку, и тотчас лицо изменилось, словно похудело, уставился мимо меня очень голубыми, под выгоревшими бровями, глазами.
— Да, да, слушаю… Рад вас слышать, Николай Прохорович. Да, да. Звонил. Меня эта история с учениями беспокоит. Я, как главный хирург… хорошо, подожду, — губы сжаты, глянул на меня, подозвал кивком, вынул из ящика торопливо две бумажки, десять и пять, протянул, и кивок на дверь: «Иди, иди».
Так и вышла с бумажками в руке, девушка с малиновыми губами посмотрела с изумлением.
В столовой взяла себе и Дайне самое дорогое: из спецменю. Даже сливки взбитые с клубникой взяла. Дайна много раз подкармливала меня, будто по рассеянности возьмет два бифштекса вместо сырников надоевших. Теперь моя очередь. Она удивилась:
— Гуляешь? Откуда деньги? Или это прощальный обед?
Она уже знала о моем преступлении, она всегда все знала. Страшно хотелось рассказать, показать ключ для полного эффекта. Но вспомнила Раю, московскую хранительницу моих жалких тайн. Плохую хранительницу, недобрую. Если бы знала тогда, какой бедой обернется моя болтливость, каким позором.
— Женщины глупы, — изрекла Дайна, обламывая блистающими свежим лаком пальцами кусочек хлеба. — Зариня тоже сообразила! Но ей лишь бы лишний раз поглядеть на него. Нашла кого вести на расправу.
— Она с бутылкой меня привела, — шепотом сообщила я. Дайна, как всегда, говорила громко, и за соседним столом прислушивались.
— А хоть бы с бомбой! Достаточно посмотреть на твое лицо любому мужику, чтоб прийти в умиление.
— А что такого в моем лице?
— Придешь домой — посмотри на себя в зеркало. Ты же просто Красная Шапочка, и бутылка водки в твоих руках, наверное, превратилась в молоко для бедной больной бабушки. Шеф увидел молоко, разве не так?
— Он грозил.
— Ну правильно: Серый Волк немного попугал Красную Шапочку. Слушай, мать сегодня ночует в городе, и комната свободна. Давай поедем искупаемся, в Дом творчества сходим.
— Я не могу.
— В деревню рвешься?
— Нет. Буду в Юрмале.
Впилась подведенными глазами, но не спросила ничего. Это ее принцип: я не спрашиваю и ты не спрашивай.
— Но ночевать-то придешь ко мне?
— Если можно.
— Не можно, а нужно. Завтра у подружки одной моей именины, я обещала испечь пироги. Ты поможешь.
— Я с удовольствием.
— Лаби. Сливки я не ем. Это ты себе можешь позволить две порции. Значит, жду, а завтра поедешь со мной на именины. А сейчас лечу.
Стремительно к выходу.
В дверях столкнулись с Янисом Робертовичем. Чуть помедлила, чтоб разглядеть смог, как хороша в трикотажном облегающем платье, в повязанной по-пиратски красной косынке. Он разглядел, улыбнулся одобрительно. На кухню пошел сам, как все смертные. Вернулся с подносом: творог, сырники, сметана, вроде Олега молочным питается. Я сосредоточенно поедала сливки с клубникой. Конечно, сообразит, что на еще не заработанные деньги лакомлюсь. Остановился около столика, сказал негромко:
— Напишите объяснение, как и что, а я выговор напишу.
Я кивнула, не отрываясь от сливок.
Электричка пронеслась над Даугавой, мелькнули за окном белые дома Иманты, солнце вызолотило отполированные деревянные сиденья. Вагон безлюден, только соседний отсек занят. В нем расположилась семья. Угрюмый отец, распаренная беготней по магазинам мать в серьгах с лиловыми камнями, старчески опрятная бабушка и двое молодых. Дочь и жених. Свадьба уже близко — наверное, в субботу. Мать спросила парня, договорились ли насчет машины, а он поинтересовался, удалось ли достать свиные ножки для холодца. Женщина усмехнулась высокомерно, красноречиво глянула на дочь: «Ничего себе молодца нашла, в бабьи дела вмешивается, да еще сомневается в моих возможностях».
— Достала, достала, не волнуйтесь.
Молодые долго с родителями вместе не проживут. Уже сейчас видно. И отец хмыкает презрительно, и бабушка отвернулась к окну.
У девушки синяки под глазами, утомленное лицо. На парне тоже будто воду таскали. Они уже вместе и сейчас огорчены, что эту ночь придется порознь. Все-таки надо соблюсти приличия. Снимают дачу на Взморье. Две комнаты и веранда. Мать рассуждает, как рассадить гостей: главный стол — на веранде, тех, кто попроще, родственников, подруг, — в комнате.
Электричка затормозила у платформы. «Приедайне», — объявил глухой голос в репродукторе.
Что они услышали?
Для них, русских, так же как для меня, в непонятных латышских словах должно звучать что-то мистическое, созвучное тревогам или радостям души. Названия трав, рек и просто ничего не значащие обыденные понятия оборачиваются вдруг утешением или болью, откровением или загадкой. Вот и сейчас. Что услышали они и что я? Меллужи были для меня хорошим словом, слышалось «не тужи», а Булдури не любила — очень просто и грубо — «не дури». Но хуже всех Слока — «склока, склока». Это о доме, о Вере, о Петровских, о страшных словах Елены Дмитриевны. Только Приедайне — каждый раз новое.