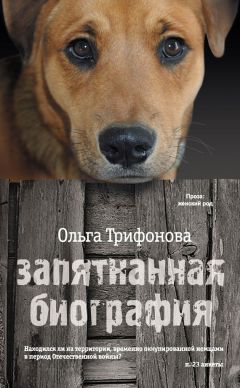— У меня тоже где-то есть «скрэбл», хотите поиграем? Если выиграю я, вы идете со мной гулять… в магазин. Моя домоправительница одряхлела, и картошку ей носить трудно. Сделаем доброе дело.
— А если выиграю я, вы дадите мне еще какую-нибудь интересную книгу.
Выиграл он. Странно как-то выиграл. Сначала придрался к слову «эдем», говорил, что не знает такого. Я распалилась ужасно, доказывала, что есть.
— Это имя собственное, а собственное нельзя, — упирался он.
Сошлись на том, что, если покажу в словаре, согласится.
— Вон на полке Ожегов, ищите свой «эдем»… Эдем Петрович, — веселился Агафонов за моей спиной, пока рылась в словаре, — Эдем Евграфович — это пожалуйста, сколько угодно.
Возмущенная его весельем, поднесла книгу прямо к лицу:
— Смотрите.
— Ну надо же! — изумился он. — Кто бы мог подумать! Но я все равно выиграл, смотрите, у меня «щека» на утроении.
Появление «щеки» показалось мне очень странным, точно помнила, что в этом углу были только два свободных квадратика, потом слово «кат», выложенное мною, он еще очень удивился, что знаю такое слово, а я промолчала горделиво, не стала говорить, что узнала это слово от Тани. Она его выложила как-то. Теперь «т» исчезло и появилась «щека».
— А где же мой «кат»? — спросила я.
— Какой «кат»? — искренне изумился Агафонов.
— Ну кат, я выкладывала здесь.
— Не знаю никакого ката, и вообще надо идти за картошкой, а то магазин на обед закроют…
Ну и работы здесь! Попробуй вытри пыль, не сдвинув ни одной бумажки. Холостяцкая берлога. Книги, книги, книги… На полу стопки медицинских журналов. Похоже, что здесь никогда не хозяйничала женская рука.
Но в холодильнике домашняя еда: сырники с изюмом, куриные котлеты. Съела один сырник — проголодалась страшно. И за работу. Тут до ночи хватит.
Странный человек, видел меня только два раза и… пожалуйста: «Вся моя жизнь нараспашку, наизнанку перед тобой».
Меня можно не стесняться, «смотри, разглядывай, догадывайся, о чем хочешь».
Догадалась.
Много кассетных магнитофонов, штук пять насчитала, бутылки с заграничной выпивкой — наверняка подарки благодарных больных. Не станет же человек покупать для себя пять магнитофонов. В ванной в бельевой корзине бессчетное количество вязаных плавок — это уже те, что победнее, преподносили. Изделия собственных рук. Потом пошли свитеры — тоже самовязка, профессиональная. Латышские женщины большие мастерицы по этой части. Замочила грязное белье в ванной; пока уберусь, отмокнет как следует, потом перестираю. Чужое грязное белье. Символ. Я роюсь в грязном белье. Вот до чего дошла. Ничего страшного — просто переступила еще одну грань. Вверх или вниз? Неважно. Можно считать, что вверх, от этого ничего не изменится. Вверх по лестнице, ведущей вниз. Мне казалось, что иду вверх по лестнице, а она вела вниз.
Что я бормочу, раскладывая белье на две кучки: темное к темному, светлое к светлому, как положено.
— Где же порошок? Где порошок?..
Сам затерял — теперь ищи.
Бог знает, что себе бормочешь.
Ища пенсне или ключи…
Памятное стихотворение, на всю жизнь его запомнила…
На письменном столе среди бумаг разбросаны глянцевые проспекты. Те же, что сегодня в кабинете. Янис Робертович крикнул: «Положи на место».
Положу. Вот только рассмотрю как следует и положу. Господи, какая гадость! И как только этот мужчина согласился сфотографироваться в таком виде, правда лицо отвернул. Наверное, безрукий фотографировал. Я никогда не видела… Здесь написано, что по методу Яниса Робертовича… впервые в его клинике… Ну да, наверное… Но ведь невозможно… Возможно, по себе знаешь… Только очень больно в самом начале.
Несколько дней было очень больно и казалось, что все догадываются, по походке, по лицу, по выражению глаз догадываются.
Мама не догадалась, даже Вера. А Таня, когда хотела спросить, посоветоваться, оборвала жестко:
— Есть вещи, которые человек должен пережить один.
Я пережила.
Та ночь приближалась бесконечно медленно и неотвратимо.
Агафонов просил звонить, если освобожусь не поздно. Суматошный день. До обеда была на агитпункте. Очень хотела и очень боялась увидеть Агафонова. Он пришел около трех. Копалась в списках, выписывая оставшихся, уже начиналась лихорадка, агитатор хотел отличиться.
— Ну, как дела? — спросил негромко, остановившись у моего стола.
Только и сумела улыбнуться глупо, пролепетать:
— Кажется, неплохо.
— Вы вот что… — медлил, обдумывая что-то, — вы позвоните, когда освободитесь… если не поздно.
Девочка, напарница, такая же лаборантка, как я, просто вытаращилась от изумления.
— Спасибо. Я постараюсь.
— Постарайтесь.
Как я старалась, как выслуживалась перед Митькой! Бегала с урной по больным, раз пять в домоуправление, уточнить командированных в загранку, приносила из буфета чай. Не было меня проворнее. На этом и погорела. В девять послали с Лешей в райком. Он сидел за рулем торжественный, в шикарной дубленке, шапка из нерпы.
Окно Агафонова светилось зеленым абажуром настольной лампы, а в кухне темно.
Леша медлил включать зажигание.
— Ну что, — нетерпеливо дернулась я, — мы едем или нет?
— Ты так пойдешь на банкет? — Леша критически оглядел мои забрызганные грязью сапоги, растрепанные волосы, измазанные чернилами руки.
Пожала плечами.
— Я поздравляю тебя с праздником, — перегнулся через меня, из бардачка вынул коробку, перчатки в прозрачном пакетике, — это тебе подарок, а то восьмого моя смена, не увижу.
Духи были французские, дорогие, назывались «Клима». Вера душилась такими только по праздникам.
— Зачем! — А руки невольно протянула принять. И совсем гадкое, злое:
— Кто-то забыл в машине?
Леша отвернулся к окну: длинные, вымытые, блестящие волосы на воротнике дубленки, оскорбленный нерповый затылок.
— Ду… глупая ты, Анна. Думаешь, если рассказал тебе, как дарят что-то, значит — вор. Забытое, между прочим, имею привычку в парке диспетчеру сдавать.
— Извини. Я нехорошо пошутила, извини.
Оживился тотчас. Повернул худое носатое лицо: прямо артист в дубленке, в шапке этой богатой. Олег рядом с ним работягой простецким выглядит.
Приходил в тот день раза три. Пальто нараспашку, облезлая ушанка на затылке. В обвисших карманах — по ананасу. Всех угощал и хвалился, что их участок лучше: в буфете ананасы продают и бананы.
— Аня, за тобой во сколько заехать?
— Не знаю. Спроси у своего дружка, он же начальник.
Это до прихода Агафонова.
— Ань, а я к вам на банкет приду.
— Будет очень странно, и своих обидишь.
— Ты думаешь? — спросил доверчиво.
— Уверена.
— Ну, я тогда со своими посижу немного, а потом к вам примкну.
— А я не пойду, наверное. Устала.
Это после прихода Агафонова.
Леша всю дорогу до райкома и обратно трепался не останавливаясь. Про мать — билетершу в кинотеатре «Пламя», про отчима, «хорошего мужика», хотя и поддающего, про забавную сводную сестренку. В ГУМе, оказывается, вчера давали гипюр, он взял на рубашку, мать ни в какую не хочет шить, говорит — «бабская», ничего не понимает в моде… «Горит окно или не горит, — думала я, — горит или не горит».
Окно светилось.
От банкета никак нельзя было отвязаться. Громче всех протестовал Леша. Он чувствовал себя на агитпункте хозяином. Отдавал распоряжения, помогал таскать урны. Потом опять ездили в райком (окно горело, горело из последних сил), и из последних сил я рвалась уйти. Жаловалась на головную боль, на усталость, на то, что дома будут волноваться.
— Я позвоню твоей маме, — сказал Митька, — хочешь? Или Азаров позвонит.
— Я сама позвоню.
Ушла в пустую комнату. Набрала номер, уже наизусть, откликнулся сразу, встревоженно:
— Да!
— Виктор Юрьевич.
— Кто это?
— Это я, Аня.
— Да, Аня. Ну где же вы? Я уже сто раз ставил чайник.
— Мне нужно идти на банкет.
— Нужно? — голос насмешливый, холодный. — Ну, если нужно…
— Правда. Честное слово. Никак не получается, я уж и так и эдак…
— Неважно! Приходите после, как сможете.
Короткие гудки. Часы на стене показывают одиннадцать.
«Когда же я смогу? Пусть Азаров и вправду позвонит маме».
В соседней столовке ждал длинный, накрытый к нашему приходу стол. Нельзя сказать, чтоб очень расщедрились на наш банкет: иваси с луком, винегрет — его вдоволь, рубленые шницели с сероватой картошкой, Бог знает на чем жаренной. Но все были голодны, и выпивки добавили, вынув бутылки с водкой из сумки «Аэрофлот», и запасливые женщины-агитаторы выдали домашние пирожки с капустой, студень с сиреневым хреном. Они были очень оживлены и нарядны, в отличие от меня, поминутно поглядывающей на часы, равнодушно кивающей Леше в ответ на вопрос: