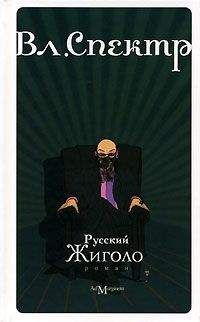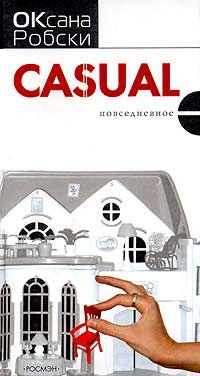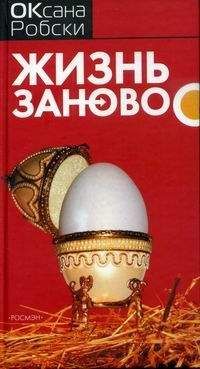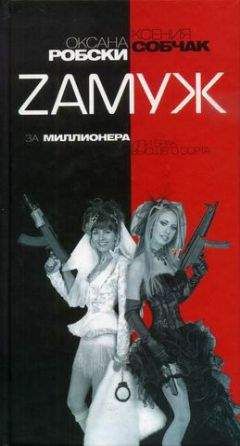Вероника видит в отражении себя, бледную и старую, морщится, хочет что-то сказать, быть может, попросить меня снять их, но так и не находит в себе сил.
– Ты уж прости, – говорю я, когда официантка разочарованно отходит от нас, – но мне надо у тебя кое-что спросить.
– Валяй, – она выглядит подавленной, и я даже на какой-то момент думаю отказаться от предстоящего разговора.
Вместо Soul Ballet теперь звучит Jeff Mills, детройтское техно вколачивает невидимые гвоздики в наши уши. Мне неприятна вся ситуация, однако я знаю, что поговорить необходимо. Когда, если не сейчас?
Я снимаю очки, тру глаза, потом надеваю их снова и, наконец, спрашиваю:
– Ты не знаешь, что это за дерьмо такое, когда надо жрать ногти покойника?
– Что?! – Вероника вздрагивает, вид у нее такой, будто она сейчас сблюет на стол. – Что?!
– Сон мне приснился, будто бы я мазал лицо кровью какой-то мертвой телки и жрал ее же ногти. Не знаешь, что это? Может, обряд какой-нибудь? Я никак вспомнить не могу.
На этих словах она вздрагивает и бледнеет еще сильнее, хотя минуту назад мне казалось, что сильнее уже некуда. Да на ней просто лица нет.
Я думаю, что вот именно так она и будет выглядеть в гробу, до прихода косметолога из погребальной конторы.
Через мгновенье Вероника все же берет себя в руки, щеки немного розовеют.
– Не знаю, – она пожимает плечами. – Мерзость какая-то тебе снится, надо попытаться выкинуть ее из головы, а ты мусолишь. Забудь.
– Да я так и думал сделать, – говорю я, – просто выбросить из головы, не получается. Посмотри-ка.
И мрачно протягиваю ей зеленую тетрадку.
– Что это? – спрашивает она.
– Что это? – спрашиваю я.
– Зачем ты мне показываешь эту жуть?! – Вероника делает страшные глаза.
Ее начинает трясти, резким движением она вырывает у меня записную книжку, пролистывает ее. Взгляд ее задерживается на описании обряда.
– Идиот, – шипит она.
– Спокойно, – говорю я и стараюсь улыбнуться, улыбка не получается.
В динамиках начинает играть какой-то обезличенный lounge, что-то вроде ранних сборников Caf? del Mar.
– Попугать меня вздумал? – она захлопывает тетрадь и убирает в сумку.
– Ты не поняла, – говорю я, – я не просто так притащил эту тетрадку. Мне поручили ее найти.
– Что? – похоже, она вот-вот вырубится, просто грохнется в обморок на блестящий керамический пол. – В каком это смысле?
Голос у нее тихий и дребезжащий, старушечий такой голосок.
– Сейчас я тебе все объясню. Но ты мне должна в ответ рассказать, что это вообще за хуйня такая творится. И что еще за чертовщина, обряд этот, договорились?
В ответ Вероника лишь слабо пожимает плечами, но мне и этого достаточно.
– То, что я тебе расскажу, штука крайне серьезная и неприятная, – говорю я.
Вероника мрачнеет еще больше. Я немного медлю, собираясь с духом и, в конце концов, выкладываю все начистоту.
Рассказываю детально, сначала про сон, потом про то, как я переживал, что Вероника меня бросит, как обрадовался, когда она решила взять меня с собой в Лондон.
Я ничего не говорю ей о своих страхах, что у нее есть другой, ни слова не произношу про ресторан и бабки, сейчас это все неуместно. Я говорю, как скучал, когда она уходила по делам, рассказываю, как шлялся по магазинам, не имея возможности даже купить ей подарок, я так и говорю: «Тебе подарок», – и, по-моему, это ее трогает, во всяком случае, она уже не выглядит такой отмороженной.
Я подробно описываю, как заперся в этот ужасный Starbucks, потому что у меня не было денег ни на одно приличное место, как ко мне подкатил этот лысоватый мусор, Тимофей, как развел меня и запугал.
Рассказываю, как мы сидели в дешевом пабе и пили, как нюхали кокаин в сортире и как он вынудил меня пообещать помогать его конторе. Как я обещал стучать на Веронику. Как я согласился стать доносчиком. Как пытался рассказать об этом ей с первого же дня, но все не выходило, как-то не к месту получалось.
Я рассказываю о своих переживаниях, о том, что боялся, что она меня не поймет и не поверит, но вот сейчас уже догоняю, что все – дошел до точки.
Потом я еще раз рассказываю свой сон. И про запись в зеленой тетрадке. И про странные слова Тимофея о том, что Вероника чуть ли не в мировом заговоре против человечества подозревается, во всяком случае, я так его слова понял.
Она молчит, внимательно, не перебивая, слушает. Когда я заканчиваю, она все так же молча, жестом подзывает официантку и делает ей знак принести нам выпивку.
– Слушай, – я качаю головой, – если честно, я еще ничего не ел, к тому же у меня диета и бухать сейчас как-то неправильно.
– На хуй твою диету. Надо выпить, – тяжело и медленно произносит Вероника, словно у нее еле язык ворочается, – тут точно надо выпить.
Приходится согласиться.
Официантка приносит два двойных скотча и яблочный сок.
– Давай, – кивает мне Вероника и подносит стакан к губам.
Она пьет быстро и жадно, почти залпом, и громко бахает почти опустошенным стаканом о белую столешницу.
– Хуевые дела, – говорит она.
Я отпиваю немного, ставлю стакан и спрашиваю:
– Что происходит?
Она некоторое время смотрит на меня молча, потом медленно, словно нехотя, разлепляет рот, свои чудесные губы, в меру закачанные коллагеном.
– Это я у тебя хотела бы спросить, – говорит она еле слышно.
Я снимаю очки. Меня мутит.
– Мне казалось, ты знаешь, – говорю я, – что все это значит. И что это еще за заговор против человечества?
Вероника молчит. В колонках играет трек Kyoto Jazz Massive. Музыка мрачная, но легкая, словно последний вздох умирающей невесты. «„The Brightness Of These Days“», – вспоминаю я название композиции.
– Иногда мне кажется, что ты никогда не бываешь серьезен, что ты всегда шутишь, придуриваешься, симулируя тяжкое психическое расстройство, – произносит Вероника, – иногда мне кажется, что в своем саморазвитии, или самоуничтожении, ты дошел уже до такой экстремальной стадии, до такой черты последней, что все вокруг, даже человеческие трагедии, тебе кажутся лишь игрой, какой-то взрослой версией очередной детской забавы. – Она допивает свой виски. – Скажи-ка, – говорит она, – ты ведь помнишь, во что любил играть ребенком?
– Конечно, – я пожимаю плечами, снова надеваю очки, в них я чувствую себя намного уютнее, – ничего особенного, машинки там, солдатики, прятки. А что?
– А разве не ты сам рассказывал мне, что любимым твоим занятием в детстве было сжигать невинных беззащитных животных, ящериц и мышек, котят, раненых голубей?
– Ну и что?! – в раздражении машу я рукой. – Дети почти все жестоки без причины, это ведь простая тяга к естествознанию, посмотреть, что будет, если запалить костер и отправить на него живое существо. Да ты сама-то разве не мучила их?
– Мучила, – кивает она обреченно, – конечно. Только…
– Что? – насмешливо перебиваю я. – И вообще, к чему ты это?
– Я мучила их, но никогда не делала из этого обрядов, – еле слышно произносит Вероника, – и, потом, это не было моим лю-би-мым развлечением.
– Ну и что? – я пожимаю плечами. – Для меня это тоже не было ничем таким… основным. Вообще, к чему ты клонишь?
Я снова берусь за стакан. Виски ложится неожиданно хорошо, меня постепенно перестает трясти.
– Этот заговор против человечества, – шепчет Вероника, – это же твоя тема.
– То есть?
– Разве ты не помнишь, как часто говорил мне: «Вместе против всех»?
– Пока что я не понимаю, о чем ты. Но мне очень хотелось бы въехать, – говорю я как можно безразличнее, – просечь фишку.
На самом деле в этот момент мне кажется, я начинаю о чем-то догадываться. Вернее даже, не догадываться, а чувствовать нечто, постигать смысл сказанных когда-то слов, произведенных когда-то действий…
Смутные подозрения терзают мне душу.
– Я хотел бы понять, – твержу я.
– Я тоже хотела бы, – говорит Вероника, – последнее время у меня было такое ощущение, что что-то определенно произойдет, случится какая-то беда, и вот тут эта тетрадка…
– Твоя тетрадка, – говорю я.
Она отрицательно качает головой.
– Нет, – только и говорит она.
– В смысле?
– Это не моя тетрадка, – бормочет она.
– Не твоя? – я почти кричу. – Тогда чья же? И что она делает в нашем номере?
– Мне кажется, это твоя тетрадка, – едва слышно шепчет она.
Мне становится плохо. Перед глазами мутнеет, я вот-вот грохнусь в обморок.
– Это твой почерк, – наконец говорит Вероника.
Я на миг теряю сознание. Когда я прихожу в себя, она уже кивает официантке, жестом просит счет.
– Нам надо поговорить! – настаиваю я.
– Только не здесь, – говорит она, – возьми мою сумку, и пойдем пройдемся.
Я беру из ее рук оранжевый Hermes Birkin, и мы быстро выходим из стерильности дорогого кабака на залитую солнечным светом улицу. Некоторое время мы идем молча. Народу вокруг немного, суббота, и большинство кокни, нормальные семейные люди, сидят себе по домам, смотрят ТВ или возятся с детьми, собираются на пикник за город или проведать родственников, живущих неподалеку от Лондона. Нормальные люди.