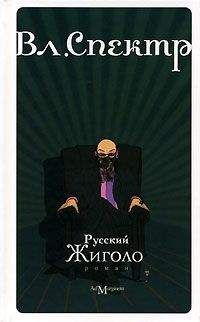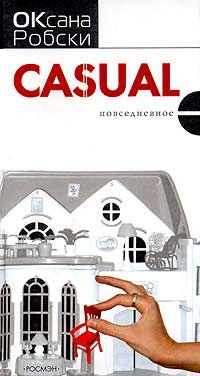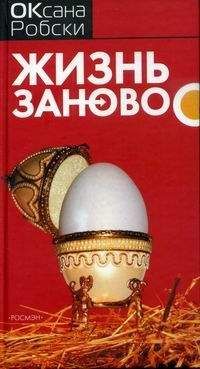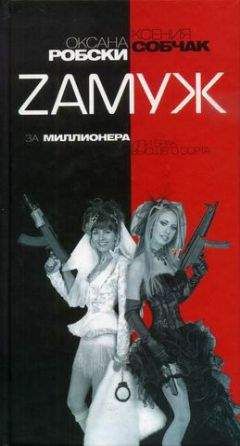Я беру из ее рук оранжевый Hermes Birkin, и мы быстро выходим из стерильности дорогого кабака на залитую солнечным светом улицу. Некоторое время мы идем молча. Народу вокруг немного, суббота, и большинство кокни, нормальные семейные люди, сидят себе по домам, смотрят ТВ или возятся с детьми, собираются на пикник за город или проведать родственников, живущих неподалеку от Лондона. Нормальные люди.
Я иду и думаю, что нормальные люди всего мира заняты сейчас этим. Прогулки по городским паркам и аллеям, необязательный шопинг, бассейн, боулинг, игра в квазар, мороженое в сахарном рожке, цирковые представления, собачки и кошечки, а еще тигры, лошади, морские котики и грустные клоуны в идиотских париках.
Отцы семейств читают газеты, килограммы и тонны желтой прессы, спортивных обозрений и биржевых сводок.
В это время мамаши в отвратительных, но жутко полезных витаминных масках и бигуди следят, чтобы отпрыски доели, наконец, свои мюсли, хлопья и творог.
Они созваниваются с друзьями и обсуждают планы на вечер, и настроение у всех этих нормальных такое приподнятое, спокойное такое, блядь, настроение выходного дня, они предвкушают именины и свадьбы, крестины и просто званые ужины, походы в театр и кино, пивные, аттракционы, аттракционы, сраные аттракционы, эти американские горки, колеса обозрения и комнаты смеха, короче говоря, целую гребаную кучу аттракционов, и еще музеи, галереи и выставки, частные коллекции, иконы, гжельский фарфор, яйца Фаберже, полотна Ренуара, концептуалистов, дом-музей Паустовского, архитектуру конца XVIII века, японскую живопись, работы молодых немецких фотографов и всякое другое дерьмо.
В первый раз за свою жизнь я думаю обо всем этом не с чувством превосходства, а с какой-то легкой грустью. Мне кажется, я когда-то давно совершил ошибку, неправильно расставил приоритеты, сознательно избегал становиться одним из нормальных и простых, почитая этих людей скучной и серой массой. И вот итог – похоже, я завидую им.
Мы идем с Вероникой по светлой стороне улицы, небо ясное, ни облачка, а солнце такое яркое, что приходится постоянно жмуриться. Я по привычке смотрю на свое отражение в витринах магазинов, обращаю внимание на редких прохожих, кто как одет, какая прическа, и все в таком роде.
Навстречу попадаются сплошь неопрятные типы из местных, лохи в отвратительных мешковатых джинсах и балахонах GAP, с рюкзаками и наушниками в ушах. Еще есть немного туристов, по большей части японцев или других узкоглазых, они энергично движутся в разных направлениях галдящими стайками и беспрестанно фотографируются, отчего-то напоминая мне маленьких юрких пустынных зверьков.
Я хочу сказать об этом Веронике, уже поворачиваюсь к ней, чтобы поделиться своими наблюдениями, и тут же понимаю, что Вероники нет. То есть ее совсем нет, нигде, ни здесь, ни чуть поодаль, ни в самом конце улицы.
Я думаю, что, может быть, я увлекся витринами и прохожими и взял слишком быстрый темп, а она отстала. Я поворачиваю назад и бреду в сторону ресторана, откуда мы вместе вышли совсем недавно. Вероники нет. Я смотрю на часы, похоже, прошло уже довольно много времени, видимо, я чересчур погрузился в свои идиотские наблюдения и притормозил, а она, как обычно, психанула и ушла вперед. Я снова разворачиваюсь и иду, даже бегу по улице и снова нигде ее не вижу.
Что за черт? Я звоню ей на мобильный, но он не отвечает. Идиотизм! Я останавливаюсь и пытаюсь вспомнить, как мы вышли из ресторана, как пошли по улице, и тут с ужасом отмечаю, что не помню, выходила ли Вероника вместе со мной.
Я снова разворачиваюсь и бегу сломя голову обратно, расталкивая группы японских туристов, похожих на сусликов, и аборигенов, похожих на массовку фильма Trainspotting.
За какие-то семь минут я пробегаю почти всю улицу и останавливаюсь у того дома, где находится паб, так похожий на французский винный бар. У дверей зачем-то собралась дикая толпа, я пытаюсь протиснуться к входу, но его охраняют полицейские придурки и никого не пускают внутрь. Что еще за хуйня?
Я собираюсь уже продвинуться ближе, вплотную к этим идиотам. Я хочу попытаться объяснить усатому сержанту с каменным лицом, явному деревенскому дебилу, что я ищу свою спутницу, что, возможно, она пошла в туалет, а я вышел на улицу, и мы потерялись. Я хочу сказать ему, что ее телефон, как назло, выключен, а ведь она никогда его в принципе не отключает, и я не понимаю, что происходит. Я даже хочу сказать, что, возможно, ее похитили враги, ведь она не просто стареющая, но молодящаяся дама, а серьезный игрок в русском бизнесе, и у нее много врагов, даже здесь, в этой их ебаной Англии. Короче, я собираюсь уже выложить всю эту ахинею полицейскому тупице, но тут…
Двери ресторана распахиваются, и два санитара медленно выносят на улицу носилки с чьим-то телом, укрытым простыней. На белой простыне, где-то в районе лица жертвы, расплывается багровое пятно. Одна из рук жертвы свешивается с носилок, и я узнаю яркий маникюр, тонкие пальцы и колечко от Tiffany из розового золота и платины!
– Блядь! Блядь! Блядь! – почти кричу я, но голос срывается и превращается в испуганный птичий клекот, и я думаю: «Слава богу!». Слава богу, потому что он тонет в общем людском гомоне и шуме улицы и никто не обращает на меня внимания.
Я поворачиваюсь в отчаянии и с силой продираюсь сквозь плотную толпу зевак. Я стремительно иду по улице прочь от ресторана, стараясь не перейти на бег. Я прохожу несколько кварталов, стараясь не встречаться ни с кем взглядом, усердно смотрю себе под ноги, словно ищу что-то там, на тротуаре.
Наконец, я сворачиваю за угол, во двор какого то дома викторианской эпохи, покрашенного свежей голубой краской. Меня колотит. Меня просто выворачивает наизнанку.
Я прислоняюсь к холодной шершавой стене с уже облупившейся кое-где краской и блюю. Мой желудок пуст, ведь завтракал я только стаканом виски, и поэтому из меня не выходит почти ничего, кроме желчи.
Кто-то проходит мимо, совсем близко, в полуметре от меня. Я вздрагиваю и оборачиваюсь в ужасе. Я почти уверен, что это Тимофей, сраное лысое чучело, урод, сейчас он бросится на меня.
«Давай, падаль, давай, мне не страшно, почти ни капельки не страшно, – я поворачиваюсь и выставляю вперед кулаки, – тебе придется повозиться со мной, сука!»
Но нет, это всего лишь бомж, какой-то донельзя опущенный старый придурок, в провонявших потом и испражнениями лохмотьях.
– Hey, mister! – пропойца машет мне своей крючковатой лапой и скалится, показывая гнилые желтые зубы.
Я отворачиваюсь, опираюсь руками о стену дома, пытаюсь взять себя в руки.
– Life's too short, mister, – слышу я.
Я оборачиваюсь и смотрю на бомжа, тот подошел совсем близко, смотрит на меня своим мутным взглядом и улыбается.
– We all are dying, do you know? – бормочет он.
И тут что-то взрывается внутри меня, толкает меня вперед, прямо на омерзительного бомжа. Я с размаху бью его в старческое, сморщенное, опухшее от нескончаемых пьянок лицо, в это омерзительно рыло, еще раз и еще, он валится на землю, а вокруг никого, двор достаточно глухой, и никто не может помешать нам. Мы здесь вдвоем, только он и я, и это так же интимно, словно секс, только агрессия моя самая настоящая, а не эта извращенная болезненная поза Вероники.
Агрессия выходит из меня толчками, выплескивается сквозь мои поры, сочится сквозь них вместе с потом, я нарушаю все возможные пределы, пересекаю границы и бью бомжа ногами в этих смешных красных татуированных кроссовках Puma by Alexander McQueen.
Я внезапно вспоминаю все свои страшные тайны, до сего мига надежно, казалось, спрятанные на дне моей памяти.
Я вдруг вспоминаю пропавшую без вести учительницу физики, Анну Степановну, властную даму бальзаковского возраста, вспоминаю, как после ее исчезновения к нам в школу приезжал этот чудаковатый следователь, со смешной украинской фамилией, по-моему, Бабенко, он допрашивал всех, и учеников, и учителей, но что они все могли ему рассказать?
И только я один знал, куда и как подевалась она, только я мог бы поведать, что ее тело покоится на дне старого колодца не так далеко от школы, только я мог рассказать, какой мучительной смертью умирала она, та, что, казалось, обладала неограниченной властью над учениками, абсолютной властью надо мной…
Я бью бомжа, буквально втаптывая его в землю, потому что знаю, он – не человек. Это Старость, сама Старость, верная пособница смерти, проходила рядом в его обличье. Да она, впрочем, всегда рядом, я знал это и раньше, но воочию ее не видел, только признаки увядания, только посланников ее, тех, кто приходил в наш мир, облеченный властью, тех, с кем следовало бороться.
И вот Старость распростерта передо мной на земле, и у меня есть возможность с ней поквитаться.
Я бью бомжа по почкам, в пах и по лицу, прямо в крючковатый нос, который сразу же обращается в кровавое месиво, в гнилой, дурно пахнущий рот и в уши, особенно в уши, в брови, поросшие седым мхом. Я бью его всюду. С упоением и какой-то болезненной негой наношу яростные удары. Я смотрю вниз, на его лицо, в надежде увидеть гримасу боли, но, к своему удивлению, обнаруживаю, что бомж издевательски улыбается, кривит свой беззубый рот в наглой усмешке.