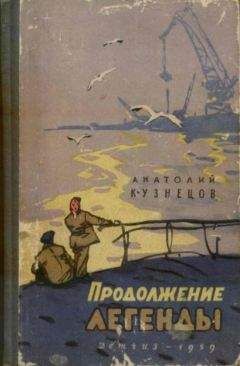Но по какой-то иронии судьбы поездка в Сибирь беспокоит Диму Стрепетова более, чем всех нас. Он в поезде мечется, не находит себе места. Я не понимаю его, но подозреваю что-то неладное: видно, что-то мучит его. Он подолгу стоит у окна и смотрит на мелькающие километровые столбы. Тоскует. Может, просто потому, что тесно ему тут, негде развернуться, а нужно ехать и ехать в душной клетке? Может, потому, что он возвращается на родину?
Димка Стрепетов больше, чем другие, заботится о Ваське, и тот привязался к нему всем сердцем. Когда Дмитрий задумается, глядя в окно, Васек тоже рядышком смотрит.
— Дим… А в Сибири черемуха растет?
— А куда ж она делась?
— Я люблю черемуху…
И как-то само собой вышло, что, когда Дмитрий что-то предлагал, все соглашались; когда приказывал, слушались. Даже обстоятельный и независимый Иван Бугай молча и согласно признал его власть. А для Димки это не была власть, он просто руководил, как руководит старший брат.
Отъезжая от Москвы, мы, самостоятельные мужчины, все сразу закурили, даже Васек, и стало ясно, что он до сих пор ни разу не курил. Из нашего отделения повалил дым столбом. Проводник дядя Костя пришел, уперся руками в бока и с минуту разглядывал нас с любопытством. Мы молча сидели и курили.
— Вот что, генералы, — сказал он, обращаясь к одному только Димке Стрепетову. — Чтоб я больше этого не видел! Назначаю тебя начальником купе.
— Есть! — улыбаясь, сказал Димка.
Когда проводник ушел, он погасил окурок о каблук.
— Кончаем, братва. Будем ходить в тамбур. В самом деле: тут женщины, дети… А ты, Васек, мал еще, нечего переводить папиросы!
С тех пор мы ни разу не курили в вагоне.
Любопытно смотреть, как Дима и Васек играют в шахматы. Васек сообразительный — цоп, цоп! — и обставил, быстро и ловко. А Дмитрий подолгу размышляет над простейшими ходами, глубокомысленно морщит лоб и задевает фигуры корявыми пальцами. Рычаги, баранка, рельсы — это да, это по нему, а хрупкие точеные фигурки и тонкая игра не даются. Он проиграл много раз, но не сдается и снова садится. Васек доволен чрезвычайно! Не везет Дмитрию и в картах. Лучшего партнера для Лешки не отыскать в целом мире: Димка безгранично верит всему и думает только над своими комбинациями, никогда не проверяя, козырем или не козырем бьет его туза Лешка.
Так мы едем, шестеро разных людей, в одном направлении. И мы очень сдружились, и нам хорошо. Мы дружно впятером (без Григория) ходим в ресторан, берем самый дешевый суп, а на второе чай и сидим дольше всех. Проходя через мягкий вагон, мы независимо грохаем дверью и стучим ногами. На стоянках дольше всех торгуемся с бабами, берем ягоды и семечки на пробу горстями, дружно прыгаем в вагон, когда поезд уже набирает ход; а дядя Костя называет наше купе своей гвардией.
Мелькают будки, разъезды, выложенные камнями звезды у верстовых столбов, лозунги, висящие прямо на березах, и сотни путевых обходчиков протягивают нам вслед желтые флажки. Едем…
Я очнулся оттого, что кто-то меня тормошил:
— Толь, Толь, слышь, проснись!
Передо мной качалась круглая, лоснящаяся физиономия Лешки.
— Чего ты?
— Деньги у тебя есть?
— А что?
— Не держи в брюках. Тут один крутится, подбирается к тебе. Я его давно приметил. Хочешь, пересчитай деньги и дай мне. У меня не возьмет.
— Да ну!.. Зачем?
— Не веришь? Ну, как хочешь… Тогда спрячь под майку… Вот так. Спи. Я наблюдаю.
— Слушай, Лешка, а это не он срезал часы у Ивана?
— Нет.
— Нет?
— Нет, не он. Другой. Я знаю, но не могу сказать. Спи.
Он нырнул вниз и шлепнулся мешком на свою полку. Я попытался заснуть, но уже не спалось: было душно.
Вагон сильно качало; лампочка под потолком горела в четверть силы; стоял дурной запах от портянок и ног; эти разнокалиберные ноги торчат с каждой полки, босые, в дырявых носках, из которых вылезают пальцы; на одной полке две пары ног: одни большие, мужские, а другие — женские, в чулках. На узлах вповалку спят бабы, детишки. Душно и мутно.
Я слез с полки и пошел в тамбур. Распахнул дверь — и голова закружилась. Грохотали колеса, неслись мимо стремительные неясные тени. Шел дождь, и поручни были мокрые; залетали крупные капли; вдруг вспыхнула близко молния и осветила застывшие на миг столбы, валуны, полегшие травы и низкие лохматые тучи. Воздух был неправдоподобно свежий, пах сосновой смолой, озоном.
Вагон трясло, болтало, поезд несся на сумасшедшей скорости. Я выглянул вперед и чуть не задохнулся от ветра. Только заметил изогнувшийся на повороте длинный наш состав с электровозом впереди. Мы почти все время идем на электровозах. Там, в Европе, еще пыхтят паровозы, а здесь красивые, бездымные и мощные машины. Мы часто здесь видим реактивные самолеты и линии электропередач.
Не пойму, когда это случилось, не пойму, когда она пришла, но только сегодня Сибирь уже есть.
Бесконечная страна… Можно учить в школе цифры ее границ, мерить по карте тысячи километров от Калининграда до Берингова пролива, но, наверно, пока сам не проедешь вот так, не поймешь, не почувствуешь, какая она громадная. Мы с бешеной скоростью едем, и едем, и едем. Поезд уже стал домом родным, уже руки и ноги затекли, и, выходя на остановках, пошатываешься. Поля, леса, болотца, равнины… И еще нет половины пути до Тихого океана. Станции здесь далеко друг от дружки, а всё тянутся равнины или обыкновенные леса. Это такие же края, как и всюду, только шире, редко заселенные, почти нетронутые.
Я смотрю в темноту, и глазу все еще непривычно: ни огонька, ни зарева. Лежит громадная, невообразимая земля, дышит, цветет, кишит зверем и птицей, блестит залежами и озерами — и ждет. Ждет людей. Может быть, мы правы, что едем в Сибирь? Может, это не беда моя, а счастье?
Я не знаю ничего, только мне не по себе. Сегодня я впервые почувствовал Сибирь.
Сначала вдали посветлело небо. Потом мигнула яркая точка. И вдруг неожиданные, сказочные посыпались огни. Поезд стучал, несся, а они всё сыпались и сыпались вокруг, уже вся земля была залита ими. Вышел, зевая, дядя Костя и взялся протирать поручни; зажег фонарь и высунулся в дверь.
Тогда пришел Димка Стрепетов. Он был взъерошенный и необычный. Он волновался. Мы подъезжали к Новосибирску.
— Пойдешь со мной в город? — спросил он. — Ты не знаешь, какой это город! Ой, ты же ничего не знаешь!
Мы спрыгнули на перрон и через подземную галерею побежали в вокзал. Меня ослепили люстры, мрамор, зеркальные стекла. Признаться, никогда в жизни не видел такого дворца. Здесь все было очень удобно, все под рукой, красиво и уютно. Несмотря на поздний час, работали все киоски, ресторан, парикмахерская.
— У нас самый красивый в Союзе вокзал, — бормотал Димка. — Дальше, дальше!
Мы выбежали на площадь и пошли по асфальту. Было просторно, тихо и свежо. Пахло гвоздикой. Светились кое-где окна в больших домах по ту сторону площади. Хотелось идти неторопливо, держаться прямо, быть стройным и красивым.
— Вон там живет моя бабка, — волнуясь, показывал Димка. — Какой я бестолковый! Я бы дал телеграмму — она бы встретила… А сестра вот тут, совсем рядом, десять минут ходьбы. Ох…
— Слушай, а давай на такси, — предложил я. — Поезд стоит пятьдесят минут. Успеем!
— На такси? — Он испуганно посмотрел мне в глаза. — Нельзя. Ты ничего не понимаешь… Скажи, красивый город, а, красивый? Ну, говори! Это же Сибирь! Ты понимаешь? Говори! А?
Ну не умею я вслух восторгаться. Красивый. Да. Очень. И мы молча стояли на площади. Димка переживал, а я смотрел, слушал и дышал запахами гвоздики.
Почему он не хотел взять такси? Чего я не понимал? Я не узнавал Димку. Он тащил меня к вокзалу, потом останавливался, смотрел и опять бежал.
Воротились в душный наш вагон. Здесь Димка схватил вдруг свой заплечный мешок и ринулся к выходу. Я едва догнал его и схватил за полу:
— Куда?
— Сойду!
— Ты с ума сошел! А договор?
— Пусть ищут. Пока найдут, заработаю — отдам подъемные. Пусти!
— Димка, что ты?
— Пусти!
— Сядь. Успокойся. Зачем же ты ехал? Про что думал? Ну, поработаешь на стройке — вернешься. Ну, не будь сумасшедшим!
Он сел, уронив мешок, и поглядывал то в одно, то в другое окно. Поезд еще стоял. Диктор объявлял: «Через пять минут отправляется… Провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих…» Нужно задержать Димку на эти пять минут. Я держал. Не помню, что говорил, да он и не слушал. Наконец поезд тронулся, и опять посыпались огни. Мало-помалу они поредели, исчезли, и потянулась тьма.
Возможно, виноваты Димкины тоска и волнение, но у меня осталось от Новосибирска волнующее чувство, как от чего-то прекрасного и сказочного.