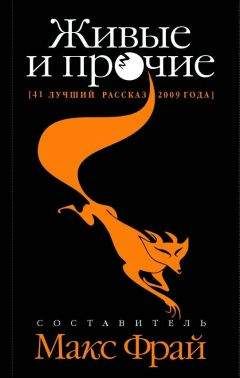Написал, когда я вспоминаю бесчисленные тяготы и лишения, плохо растертая тушь ложилась неровно, комочками, кисточка заскребла по бумаге. Дон Бартоломеу смял лист, отшвырнул, потом опомнился, бумага дорога, а у него только две меры пшеницы в год от королевских щедрот, да то, что приносит его собственная бедная земля. Попытался дотянуться до комка носком сапога, случайно поддал ему, и комок укатился за сундук.
Застонал от досады, хватил кулаком по столу, перевернул тушечницу, по столешнице растеклась жирная черная краска. Дон Бартоломеу зарычал.
Дверь заскрипела, в комнату всунулось круглое краснощекое лицо прислуги жоаны. Господин звал? Не могла она так быстро прибежать снизу, значит, подслушивала под дверью, а он чуть не вслух ругал филиппа. Когда он научится вести себя осторожней? Зайди, сказал дон Бартоломеу.
Раскрыла дверь пошире, зашла, покачивая боками, тугая, налитая, груди, как две тыквы, каштановые волосы выгорели до рыжины, крупные загорелые руки – в золотом пушке, красивая девка, аппетитная. Наглая.
Под столом, сказал он, бумага закатилась, достань.
Ничего не ответила, полезла под стол, кряхтела там, возилась, он еле удержался, чтоб не пнуть ее в зад, тоже круглый и тугой, словно тыква, ах, тереза, терезинья, ниппоночка моя, белая, гладкая, маленькая, покорная, поначалу он всех их звал терезами, чтобы не запутаться, потом путаться перестал, но на вопрос, как твое имя, дитя, каждая, конфузясь, лепетала, толеса, и он не допытывался, тереза так тереза, ах, тереза-тереза, тоненькая, худенькая, ручки крохотные, детские, сама белая, прозрачная, а волосы черные, гладкие, почти до полу, богатые волосы, когда сказала, что понесла, он поначалу и не поверил, а она и впрямь начала полнеть, грудка стала как два яблочка, ах, тереза, птичка моя, говорили, мальчик родился, падре антонио говорил, когда я думаю о бесчисленных тяготах и лишениях, выпавших на мою долю… под столом опять завозилась затихшая было жоана, он все-таки пнул ее, несильно, а так, для острастки, она обернулась, не вылезая, ухмыльнулась зазывно.
Достала бумагу, спросил сухо. Достала. Давай сюда и уходи. Нарочито медленно выбралась из-под стола, одернула юбку, подошла вплотную, грудью бесстыжей толкнула его в локоть, иди, сказал! Ушла, все так же вызывающе покачивая боками.
Он промокнул столешницу какой-то тряпкой, растер полпалочки туши, взял кисточку, когда я вспоминаю бесчисленные тяготы и лишения, выпавшие на мою долю, опять отложил кисточку, задумался. Ему было двенадцать лет, когда дядя пристроил его в пажи к богатой родственнице, но родственница сбежала от чумы на север, его с собою не взяла, бросила в лиссабоне. Он пристал к какому-то идальго, едущему в сетубал, а там нанялся на корабль.
Дон Бартоломеу густо замазал выпавшие на мою долю, написал, преследовавшие меня всю мою жизнь, перечитал. Ему едва исполнилось четырнадцать, когда его взяли в плен, турки или мавры, он толком и не понимал, повезло, не убили, а может, не повезло, выкупил его греквероотступник, мерзкий был человечишка, грубый, жадный, за полгода у него Бартоломеу ни разу не поел досыта и только об одном жалел, что это не он его прирезал, а какие-то солдаты, просто так, походя, забавляясь. Все имущество забрал себе сосед в счет старого долга, а Бартоломеу продал еврею-негоцианту, абрахаму абу касису. Когда я вспоминаю бесчисленные лишения…
В дверь поцарапались. Ну, рявнул дон Бартоломеу. Свечу принести? Пискнула из-за двери жоана, стемнело. И впрямь, стемнело, а он и не заметил. Принеси, сказал он. И горячей воды. Может, подогретого вина? Нет, ответил, воды, кипятка. По вечерам он заваривал себе траву ча, ее пили ханьцы в макао, и он начал пить, отвар был горьковатым, но приятным, и утолял жажду лучше вина.
В комнату снова вошла жоана, со стуком поставила на стол кувшин с горячей водой, рядом пристроила свечку. Опять будете делать свой колдовской отвар, спросила игриво. Он молча вытолкал ее за дверь.
Свеча потрескивала, в кувшине настаивался, исходя тонким ароматом, ча, а дон Бартоломеу сидел перед листом дорогой рисовой бумаги и бездумно ляпал кисточкой. Он налил отвара в глиняную кружку, отпил немного. Вкус был странный, непривычный, но дон Бартоломеу этого почти не заметил. В одном из пятен туши ему померещились очертания его корабля, и в груди у него будто что-то сжалось. Он отвернулся, но в груди сжалось сильней, а потом дыхание перехватило, и он заскреб пальцами по столу, сминая бумагу, а потом упал набок.
Жоана опять вбежала сразу, будто подслушивала под дверью, вцепилась в него, закричала, завыла, кто-то, топая, поднимался по лестнице, кто-то тряс его за плечи, кто-то уронил глиняный кувшин с отваром, он упал, раскололся со звоном, горячая вода потекла дону Бартоломеу на штаны, но дон Бартоломеу Фрейтас ничего этого уже не слышал, не видел и не чувствовал.
Отравила, мирно, будто жалеючи, говорил падре антонио, зачем отравила-то? Ты знаешь, что делают с отравителями? Я не, захлебывалась слезами жоана, я не нарочно, я только приворожить хотела, посмеяться чуток, чего он совсем на меня не смотрел, все смотрят, а он… приворожить, сурово переспросил падре антонио, приворожить? На костер за колдовство захотела? А когда обезумевшая жоана завизжала и вцепилась себе в выгоревшие рыжеватые волосы, легонько хлопнул ее по щеке. Замолчи, сказал. Замолчи, дура, не визжи, принеси его бумаги и иди отсюда. А на костер, икая, спросила жоана. А на костер в другой раз. Только в целости все принеси, и сама читать не смей, крикнул он ей вслед, когда она кинулась прочь, будто под ней уже загорелось. Она остановилась как вкопанная. Я же и не умею, сказала растерянно. А не умеешь, так и иди.
Падре антонио осторожно разгладил измятый, кое-где надорванный лист тонкой дорогой рисовой бумаги, весь измазанный тушью и как будто чем-то залитый. Даже если там и было когда-то что-то написано, разобрать было невозможно. Одно из пятен отдаленно напоминало кораблик. Падре антонио потрогал кораблик пальцем и вздохнул. Потом перевернул лист, взял перо и аккуратным почерком вывел, когда я вспоминаю бесчисленные тяготы и лишения, выпавшие на мою долю.
Эуфорикос, капитан и доктор
В переводе сказано: «Эуфорикос, капитан и доктор вошли в ресторан», – дальше описывается пирушка, а вышли после нее только капитан и доктор. Эуфорикоса они, очевидно, съели.
Из одного интервью
Эуфорикос, капитан и доктор подошли к ресторану, но внутрь не пошли, а остановились в дверях и принялись возиться, словно мальчишки, удравшие с уроков, и шутейно друг друга тузить. Особенно резвились капитан и доктор – капитан сбил с доктора очки, а доктор смахнул с капитана фуражку. Эуфорикос в их игры не мешался, а только смотрел и смеялся своим мелким трескучим смехом, будто рис сыпал на гладкий стол. Стояло раннее утро, но все трое производили впечатление крепко выпивших, хотя известно было, что доктор, измученный хроническим несварением, еще осенью посадил сам себя на строжайшую диету, а капитан бросил пить сразу после Рождества, проигравши с пьяных глаз инженеру Фонсеке месячное содержание и право посещать рыженькую певичку Грациеллу в перерывах между номерами. По словам Эуфорикоса, капитан ничего инженеру должен не был, потому что инженер в игре жульничал, Эуфорикос своими глазами видел у того за обшлагом двух неучтенных тузов и бубновую даму в яблочно-зеленом платье – вылитая Грациелла на благотворительном рождественском балу, – но инженер носил щегольский мундир с серебряным галуном и погоны, Эуфорикос же зимой и летом ходил в желтоватом нанковом пиджаке на голое тело, а в торжественных случаях повязывал на шею шелковую черную ленточку, что он мог понимать в долге чести?
* * *
Ти Маноло, пожилой кряжистый мулат, распахнул дверь ресторана и кивком пригласил всех войти. Капитан и доктор уселись на диванчике у стены. Острое оживление прошло, капитан задумчиво чистил рукавом испачканную тулью фуражки, доктор, близоруко щурясь, осматривал очки, не повредились ли они от падения. А вот Эуфорикосу передалось их былое возбуждение. Не в силах усидеть на месте, он вскочил, бесцельно прошелся по залу, ухватил Нинни, старшую дочь Ти Маноло, за хорошенький бочок и немедленно получил от нее увесистую оплеуху – Нинни, хоть и походила на пирожное буше куда больше, чем на угрюмого Ти Маноло, унаследовала от отца мгновенную реакцию и тяжелую руку, завсегдатаи ресторана знали об этом не понаслышке. Потирая горящую щеку, Эуфорикос сунулся на кухню. Там – точь-вточь медведь в тесной берлоге – грузно ворочалась ворчливая тетка Терезита, лучшая кухарка по эту сторону океана, как галантно называл ее инженер Фонсека, большой охотник до теткиных мукек и фейжоад [7].