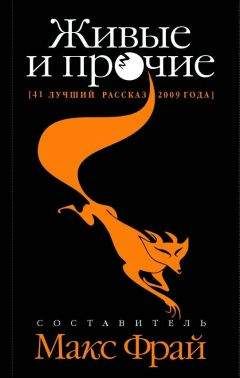– Ну, ты, – буркнула тетка Терезита, – принеси-ка мне из кладовой фасоль и банку пальмового масла, сделаю вам, бездельникам, акаражет [8].
Тетка Терезита питала к Эуфорикосу слабость. Он, конечно, повеса и лоботряс, говорила она Нинни, но такой славный. Куда лучше этого хлыща Фонсеки. И хорошенькая Нинни задумчиво кивала и пощипывала оборку белоснежного передника.
* * *
В кладовой было темно, пахло сушеной рыбой и специями, и откуда-то доносились негромкие голоса. Эуфорикосу показалось, что он услышал свое имя. Он сделал два шага вперед и прислушался. Говорили капитан и доктор, видимо, кладовая находилась как раз за той стеной, у которой они сидели.
– А что будет делать Эуфорикос? – спрашивал капитан.
– Не знаю, – отвечал доктор. – Я вообще бы не стал брать Эуфорикоса в расчет. Он человек хороший, добрый, но очень уж бестолковый и ненадежный. С ним каши не сваришь.
* * *
– Куда он делся, этот бездельник? – громогласно восклицала тетка Терезита, гремя сковородами. – Нинни, деточка, посмотри в кладовой, где там Эуфорикос, уснул, что ли? И заодно возьми миску и принеси мне маниоковой муки, не буду я делать акаражет, сделаю фарофу [9].
* * *
Нинни вошла в кладовую и огляделась.
– Эй, Эуфорикос, – тихонько позвала она. – Эуфорикос! Ты здесь?
Никто не откликнулся. Нинни еще раз позвала, прошлась вдоль стен, пиная мешки с рисом и фасолью маленькой крепкой ножкой. Эуфорикоса нигде не было.
– Подумаешь, – гордо сказала Нинни вслух. – Не очень-то мне тебя и надо!
Она подождала еще немножко, но Эуфорикос так и не появился. Нинни сердито передернула плечами и поискала глазами мешок с маниоковой мукой. Он стоял в глубине у стены, большой, желтоватый, перевязанный черной шелковой ленточкой. Нинни развязала ленточку и зачерпнула муки миской. Почему-то ей вдруг стало весело, и она фыркнула прямо в миску, вздымая облачко муки, часто задышала, грозясь чихнуть, чихнула и тут же расхохоталась звонко, с привизгом. Из этого мы заключаем, что Нинни была девушкой не только хорошенькой, но и смешливой.
* * *
Четверть часа спустя тетка Терезита с громким стуком поставила перед капитаном и доктором блюдо с фарофой, а все еще посмеивающаяся Нинни принесла тарелки, приборы, два стакана и две бутылки слабенького местного пива.
– Хотел бы я знать, – сказал капитан, глядя, как оседает пивная пена в его стакане, – куда делся Эуфорикос…
– Понятия не имею, – откликнулся доктор, накладывая себе фарофы. – Я же говорю, он бестолковый. С ним каши не сваришь.
Показалось ему или и впрямь фарофа в его тарелке трескуче хихикнула? Может, и показалось.
Новелла о давлении
…а то вот в прошлом году одному человеку, нестарому еще мужчине из нашего дома, врачи в больнице сказали, что он умер. прямо в лицо сказали, совсем никакого понимания у людей не стало, что можно говорить, а чего нельзя.
человек этот, – звали его, допустим, Фонсека, Анастас Теофильевич Фонсека, – говорил потом, что для него это был ужасный удар, ему самому и в голову не приходило, что он уже все, ну, то есть да, что-то его с утра беспокоило, в животе, что ли, было томно или в груди щемило, Фонсека даже подумал, что, может, зря он покушал на ночь сардин, тем более что одна оказалась с душком, но не очень обеспокоился, ну, томно, ну, щемит. потом, правда, стало ему похуже, Фонсека промаялся почти до обеда, надеялся, после обеда полегчает, но не выдержал и поехал в больницу, в неотложное отделение. прямо на такси поехал, хотя обычно он человек бережливый и даже прижимистый, но как-то очень уж его прихватило. и вот он приезжает в больницу, там сидит такой детина, халат на нем не сходится, рукава до локтей, и шапочка на макушке махонькая, будто таблетку аспирина на арбуз положили, мерит всем давление и температуру и на руку браслетки цветные надевает – кому красную, это срочно, кому желтую, ничего, потерпит, а кому вовсе розовую – это для сопровождающих лиц. Фонсеке он тоже градусник в ухо сунул и давай давление мерить. на одной руке померил, на другой, постучал по аппарату, опять померил, глаза на Фонсеку выкатил и орет во все горло, доктор, доктор, есть тут какой-нибудь доктор, как будто они не в больнице, а в поезде или в ресторане. Фонсеке и без того не по себе было, он вообще нечасто болел и в больницу старался не попадать, а в неотложном отделении и вовсе только раз был, и то в детстве, когда проглотил шарик от пинг-понга, а тут еще такой верзила в халате смотрит на него с ужасом и доктора зовет, в общем, сомлел Фонсека. в себя пришел уже на каталке. открыл глаза, смотрит – лежит он в коридоре, рядом с ним докторша в такой специальной пижаме, они же теперь халатиков не носят, которые женского пола, они носят пижамы цветные со штанами, а на этой докторше пижама была голубенькая в мишках, значит, из педиатрии, и вот стоит она рядом с Фонсекой, положила ему на живот какие-то бумаги и расписывается в них. Фонсека спрашивает, мол, что это такое, а она, не глядя, это, говорит, свидетельство о смерти. расписывается на последней бумаге и протягивает ему, а там черным по белому, Фонсека, Анастас Теофильевич, год рождения одна тысяча какой-то и дата смерти сегодняшняя. Фонсека на эту дату глянул, хотел опять сомлеть, даже глаза закрыл, но чувствует, нет, не тянет его в забытье, а тянет, наоборот, размять ноги, и еще кофе выпить, и покурить, с самого утра не курил, тошно было, а тут, видимо, отлежался. ну, он глаза опять открыл, докторша уже отошла куда-то, он слез и пошел себе тихонечко к выходу. бумажку о смерти с собой прихватил на всякий случай. вышел из отделения, дошел до кафе, есть там через дорогу такая стекляшка с кофе и булочками, встал прямо у входа, к стеночке прислонился, вынул сигарету, зажигалку, а руки-то трясутся, он от нервов даже сигарету не тем концом в рот сунул, подавился крошкой табака и долго кашлял. потом продышался немного, успокоился, очень все-таки помогает, если покурить, а тут кто-то рядом с ним тоже зажигалкой чирк-чирк, тоже покурить, значит, решил, а зажигалка не работает, а человек чирк-чирк, и носом шмыг-шмыг. Фонсека смотрит, а это докторша давешняя в пижаме с мишками, сама плачет, носом шмыгает, и тоже сигарету с другого конца прикурить пытается, и зажигалкой пустой чирк-чирк. Фонсека у нее сигарету изо рта забрал, с правильного конца от своей зажигалки прикурил, обратно ей отдал, а тут она как разревется в голос, уйду, говорит, уйду в участковые терапевты, не могу больше, что ни день, у меня кто-нибудь умирает, вчера одна бабушка, даже и не больная, а из сопровождающих лиц, сегодня вот вы. Фонсека ей говорит, ну что вы, вы-то тут при чем, я к вам уже поступил мертвым, а она, это вы только так говорите, чтобы меня утешить. в общем, Фонсека ее как-то успокоил, разговорились они, Фонсека ей пожаловался, что в свидетельстве о смерти причина не указана, а ему же любопытно, и час тоже хорошо бы вписать, чтобы он знал, он с утра еще умер или только в больнице, тогда докторша, Сузана ее звали, надоумила, сходите, сказала, к патологоанатому, я вам сейчас направление выпишу, патологоанатом вам наверняка скажет, когда вы умерли и от чего.
потом они в кафе по чашечке кофе выпили, Фонсека хотел за Сузану заплатить, но она отказалась, был бы он, сказала, ее больным, было б ничего, но, чтоб ее мертвый за нее платил, это, наверное, совсем неэтично. потом она пошла работать, а Фонсека пошел к патологоанатому. приходит, а тот обедает, у него там такой столичек, на столичке пленка постлана, на ней лежит хлебушек, котлетка, салат в мисочке и полбутылки вина. увидел патологоанатом Фонсеку и рукой ему машет, мол, проходите, что у вас там, а сам котлетку откусил и жует, и такой от этой котлетки дух, Фонсека сразу вспомнил, что не завтракал и не обедал, а только кофе выпил и две сигареты выкурил, а патологоанатом свою котлетку прожевал, надел очки, взял направление, что Фонсеке докторша Сузана выписала, сидит, читает. а прочитал и сразу раскричался, мало мне, кричит, приносят тут и привозят, еще своими ногами покойники будут приходить, убирайтесь, кричит, отсюда, мошенник и симулянт. Фонсека обиделся, какой, говорит, я симулянт, когда у меня ни давления нету, ни пульса, докторша Сузана сказала, и зеркальце не туманится, если ко рту поднести, а патологоанатом – он как-то вдруг успокоился, – глянул на него так с усмешкой, ничего, говорит, это не страшно, и без давления люди живут, и получше других-прочих, вы, говорит, идти-то можете? ну, вот и идите отсюда, не гневите Господа.