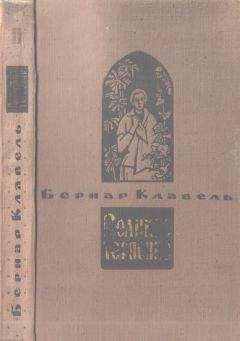У Гиймена осталось немного денег, он пошел в город и вскоре вернулся с велосипедом, который купил по случаю. Кроме того, он приобрел рубашку, куртку и брюки.
— Теперь, по крайней мере, могу вернуть вам одежу вашего сына, — сказал он.
Мать пожала плечами:
— А ведь я дала ее вам от всего сердца.
Ей и в голову не приходило, что этот человек, который только на короткое время задержался у них, будет для нее что-нибудь значить. А теперь, когда он стал готовиться к отъезду, она со страхом думала о той минуте, когда он сядет на велосипед.
— Вы не считаете, что благоразумнее повременить еще день-другой? — спросила она.
— Нет, чем я рискую, если даже придется задержаться в дороге… Теперь, когда подписано перемирие…
Она замолчала. Он сказал, что отправится завтра рано утром, как только рассветет, чтобы не ехать по самой жаре.
На следующий день мать встала чуть свет. Гиймен был уже на ногах. Она слышала, как он качал воду, чтобы умыться. Она вскипятила кофе и молоко. Ей казалось, что она вторично переживает те же минуты.
Отец тоже пришел на кухню.
— Еще не уехал?
— Нет, умывается.
— Так, так…
И это она тоже слышала тогда, когда уезжал сын.
Вошел Гиймен, голый по пояс. На плече у него висело полотенце, в руках был таз и полная лейка воды.
— Заодно я и вам воды принес, — сказал он.
— Спасибо, — сказала мать.
Конечно, это сущий пустяк, ну что такое лейка воды? Но для нее эта лейка значила очень много. Он поставил лейку под раковину. Мать смотрела на Гиймена. Тело у него было красное от холодной воды. Он оделся.
— Завтрак готов, — сказала мать.
— Вы очень добры.
Он принялся за еду. Отец тоже. Мать ходила от стола к плите и обратно, подавала им. Немного спустя Гиймен сказал:
— У меня остались деньги, я могу расплатиться за то, что ел-пил у вас.
Мать рассмеялась. Отец, проглотив кусок, нахмурился и спросил:
— Ты что, издеваешься над нами, что ли?
— Но ведь это же так понятно, — сказал Гиймен. — Я знаю, что вы не нуждаетесь, но у каждого свои расходы. Надо быть честным. Каждый должен получить, что ему причитается.
— А тебе заплатили за то, что ты четыре дня работал в булочной?
— А вам? — тут же отпарировал Гиймен.
Наступило молчание. Старики не знали, что сказать.
— Ясно, что бывают такие обстоятельства, когда надо работать даром, — прервал молчание Гиймен.
— А ведь и то сказать, хлеб-то продавали… — сказала мать.
Отец сделал нетерпеливое движение:
— Я работал, чтоб выручить человека. И, могу сказать, работал с удовольствием. А вот за деньги я бы не стал работать.
Теперь замолчали все трое. Однако, допив кофе, Гиймен опять принялся за свое.
— Булочная — это одно, — сказал он. — А я — совсем другое; я обязательно должен с вами расплатиться.
Отец хлопнул рукой по столу. Ложечки в чашках звякнули.
— Замолчи, — сказал он, — не то рассержусь.
— Муж прав, — поддержала мать. — Бывают такие обстоятельства, когда говорить о деньгах не следует.
— Тогда я просто не знаю, как вас отблагодарить.
— Напишите нам, чтоб мы знали, что вы благополучно добрались до дому, — сказала мать. — И все.
— А вы черкните мне несколько слов, когда вернется ваш сын.
Она кивнула. Теперь ей не терпелось, чтобы Гиймен поскорее уехал. Она не могла бы сказать почему, но это было так. И когда отец начал что-то рассказывать о булочной, она не выдержала.
— Пожалуй, не стоит слишком задерживаться, иначе вы не приедете засветло. — И тут же прибавила: — Не подумайте, что я вас гоню…
— Понимаю, понимаю, — засмеялся он, — но вы правы, я еще не уехал, а уже тяну, этак я никогда не доберусь до дому.
Он встал.
— Мы проводим вас до калитки, — сказал отец.
Они вышли все вместе.
Путь по саду показался матери очень длинным. Когда они остановились, отец отпер калитку. Гиймен вывез велосипед, обернулся, протянул руку отцу, который стоял ближе, еще раз поблагодарил его и обещал написать. Затем, нагнувшись к матери, спросил:
— Вы позволите вас обнять?
Мать подошла. Они обнялись. Гиймен сел на велосипед и, не нажимая на педали, покатил под гору к перекрестку. Несколько раз он оборачивался и, держась одной рукою за руль, махал им на прощание. Старики отвечали ему.
Когда он скрылся из виду, они постояли, посмотрели на улицу. Там никого не было. Уже рассвело, но солнце еще не показалось из-за горизонта.
Мать обернулась. Словно под влиянием ее взгляда, отец тоже обернулся и посмотрел на нее. Оба вздохнули почти одновременно и покачали головой. Они смотрели на стену дома, за которым скрылся Гиймен, за которым скрывались все те, кто уезжал.
Наконец они медленно пошли обратно, отец пробормотал:
— Да, ничего не попишешь, такие наши дела.
Он шел впереди. Он еще сильнее сгорбился. Словно съежился от утреннего холодка, застоявшегося под деревьями. Ему незачем было прибавлять что-нибудь к этим словам, мать и так знала, что он чувствует. Они, двое стариков, жили как бы вне всего, что происходило вокруг.
Мать отвела взгляд от сгорбленной спины отца и посмотрела вверх на листву деревьев. Небо окрашивалось в желтый цвет, скоро все засияет, однако, несмотря на нарождающийся день, сад был овеян грустью, как в час, когда гаснут вечерние сумерки.
В последующие дни мать неожиданно для себя поняла, что за всю свою жизнь она никогда еще не ощущала пустоты. Вероятно, и отец испытывал то же.
И тот и другой продолжали вставать со светом. Это вошло у них в привычку, они очень давно вели такой образ жизни, и даже война не могла ничего изменить. Немцы строже следили за соблюдением приказов о противовоздушной обороне, но старики Дюбуа не испытывали от этого неудобства — в это время года они и так не зажигали света. Только дни и ночи тянулись теперь по-иному. Они старались жить так, как жили всегда; с виду как будто ничто этому не мешало, но жизнь не налаживалась.
Когда отец занимался чем-нибудь в саду или в сарае, работа почему-то не спорилась. Он бросал ее и начинал другую. Мать ходила из кухни в погреб, из сада на улицу, и ей тоже никак не удавалось довести до конца то, что она задумала сделать.
Дни стояли очень жаркие. Солнце пекло. Листья желтели, цветы в саду днем никли и оживали только ночью. Были и другие дни, хоть и без солнца, но очень томительные; зной, как расплавленный металл, струился на землю с затянутого маревом низко нависшего неба. Даже дождь не освежал. Земля курилась. Из-за испарений, исходивших от нее, тяжело было дышать.
Когда отец прерывал на несколько минут работу и шел отдохнуть на скамейку возле дома, он долго обтирал пот с лица.
— Не пойму, что со мной… — удивлялся он. — Не пойму… Никогда прежде не было со мной такого.
— Отдохни, — говорила мать, — ты устал, вымотался, работая по ночам в булочной. Ты отвык от такой работы, да и годы уже не те.
— Что ты, тогда я себя лучше, чем сейчас, чувствовал. Нет, это не усталость. Устать я не мог, ведь я целый день ничего не делал. Не пойму… Просто не пойму, что со мной.
Почти все соседи уехали. Время от времени стариков Дюбуа навещали Робен и мадемуазель Марта, но они оба уже опять ходили на службу.
Когда кто-нибудь приносил новости, мать слушала. Сама она молчала. Отец иногда задавал два-три вопроса, но обычно довольствовался тем, что ему рассказывали. А потом мать неизменно спрашивала:
— А молодых, которые уехали, это касается? Вы что-нибудь слышали?
Разговоры о пленных тоже волновали ее.
— Не знаете, они берут в плен только солдат или и других тоже? Они не угоняют молодежь призывного возраста?
Как-то утром, отправившись за покупками, она увидела на площади Лекурба четыре немецких грузовика. Их охраняли часовые в касках и с винтовками. Под брезентом чуть виднелись чьи-то лица; чьи-то руки старались раздвинуть зеленые с коричневым полотнища, делали какие-то знаки. В нескольких шагах от часовых держалась группа французов. Мать подошла ближе.
— Кто там? — спросила она.
— Пленные, их везут в Германию.
— Солдаты?
— Кажется, да, но, кажется, есть и штатские.
Мать не знала никого из толпившихся здесь любопытных. Она постояла, походила, обошла вокруг грузовиков, держась на почтительном расстоянии от часовых, затем вернулась к группе французов. Отыскала того, с кем перед этим разговаривала, и спросила:
— А поговорить с пленными они нам позволят?
— Не думаю. Попробуйте, тогда сами увидите.
Говоривший был высокого роста, широкоплечий. Он наклонился, отвечая ей. Вдруг он рассмеялся:
— Вас они, во всяком случае, не заберут, в гренадеры вы не годитесь — ростом не вышли.