Итак, я увидел то, чего детям видеть не следует, секретом больше стало в моем мешке: ведь я, разумеется, разделял нежелание философа распространяться о моем посещении бойни, ни мне, ни ему не хотелось попадать в затруднительное положение. Да и зачем я стал бы об этом рассказывать? Я стремился сохранить видимость детской чистоты в глазах тех, кто, подобно бабушке, обращался со мной как с ребенком, что было мне приятно, да я и был еще, конечно, ребенком; своим молчанием я пытался удержать хоть какие-то уголки рая, утраченного вместе со швейцарской. Однако, если я и отнесся к зрелищу убиения с некоторой снисходительностью, как можно заключить из моего обстоятельного отчета, эта тайна не доставила мне никакого удовольствия. Она наложила еще одно пятно на деревню Гризи, и без того сильно потускневшую из-за вырубленных лесов, пятно несмываемое, как на пальце леди Макбет, и оно теперь навсегда обесславит память предков, и в сон мой станут вторгаться картины той камеры смертников, зарезанных ягнят, водопадов крови, хлещущих из быка в кожаной маске.
Мудрость мясника-философа терпела провал. Глоток воздуха не принес заметной пользы моему здоровью, так же как дифирамбы войскам тяжелой кавалерии не закалили моего характера. Нужно было найти средство более сильное, и мы его нашли, это был Карнак!
Карнак, Карнак
Выбором Карнака я обязан оптимисту профессору, имевшему власть над моим здоровьем. Он посоветовал мне пребывание на пляже, в защищенном от ветров месте, ибо ветер может оказать раздражающее действие на мои бронхи.
Я никогда не испытывал большой симпатии к этому южанину, но я благодарен ему за совет, за то, что мое прошлое озарено светом Бретани, мягким перламутровым светом, чья прелесть в Карнаке особенно ощутима из-за поразительной белизны солончаков; озарено светом лагуны, который ближе к берегу приглушают песчаные, поросшие папоротником и утесником ланды и покрытый лишайником гранит, поглощающий блики; озарено светом этого края, что самой своей верностью традициям так созвучен детству.
Правда, ныне край этот существует лишь в неповторимости своих, пейзажей. Бретонский фольклор, вместо того чтобы хранить местные обычаи, освящает их упадок, их оседание в тех больших саркофагах, какими являются краеведческие музеи. Именно там лет тридцать спустя я снова увидел национальные костюмы, которые в годы моего детства были самой обычной одеждой, их носили все в этих краях.
Поездка в Карнак, курорт в ту пору малоизвестный, была подлинным путешествием. Поезд довез нас с бабушкой до Плоермеля, по где были тогда мои родители? Этого я уже не помню, если вообще когда-нибудь знал. Выйдя из вокзала, пассажиры вместе с багажом погрузились в шарабан. Тряская, в рытвинах дорога шла лесом и через ланды и привела сначала в глухую деревушку, а оттуда к берегу моря. На взморье, окаймленном соснами и тамариском, стояла единственная гостиница, а еще там было море, я впервые увидел его, вернее, впервые мог созерцать во всей необъятности и цельности, поскольку прежнее мое восприятие моря было фрагментарным — отдельно волны и отдельно песок, довольно непрочно связанные между собой благодаря комментариям взрослых. Теперь море предстало передо мной во всей своей наглядной реальности, предстало" как некое живое существо, и это открытие было радостью; при этом я вовсе не думал отказываться от свойственных моему возрасту развлечений, от совков и ведерок, от барахтанья в мокром песке среди скал и камней во время отлива, вовсе нет, но к каждой из этих отдельных забав я шел от созерцания моря в его единстве, я был способен отныне обнимать взглядом все море разом — и одновременно исследовать сокровища его внутренней жизни, которыми одаривали меня прилив и отлив. Короче говоря, море будет занимать меня куда больше, чем собственно Бретань, поэтому свой рассказ о пребывании в Карнаке я начинаю именно с моря; говорить о нем доставляет мне удовольствие, однако это непреходящее состояние радости затрудняет мой рассказ: если счастье безоблачно, рассказывать, как известно, не о чем; все то, о чем я хочу здесь поведать, интересно, пожалуй, только благодаря бренности этих лучезарных месяцев, только благодаря тому, что они выпадают из общего течения моей жизни. Известно также, что такого рода каникулы нерасторжимо связаны с детством, вместе с ним они невозвратно уходят, и эта очевидность пронизана ностальгией. Когда я стану взрослым, у меня не скоро появится желание поехать к морю, я буду верен этим далеким бесхитростным картинам, этим сверкающим пустынным берегам, заливаемым в часы прилива, по которым я брожу вместе с моим другом Андре; буду вереи нашим с бабушкой прогулкам в сгущающихся сумерках, когда мы созерцаем всю беспредельность этого рокочущего пространства, раскинувшегося под легким кружевом пламенеющих облаков, а во тьме загораются и вращаются огни маяков, и моя спутница объясняет мне их значение. В этот час всегда поднимается слабый ветерок, и сосны шумят, подпевая прибою, и порою луна, прозрачная, точно агат, украдкой выглядывает из-за облаков и благодушно смотрит на нас…
Мой распорядок дня вам известен заранее. Он снова обрел свою четкую размеренность, она мне по душе, она действует на меня умиротворяюще, она благотворна, если позволено мне будет такое сравнение, как монастырский устав. При этом мой устав достаточно легкомыслен, и я этого совсем не стыжусь. Гостиница наша скромна и опрятна. В ней заведен табльдот, обычай несколько старомодный, однако облегчающий человеческое общение, и бабушка, которая поначалу чувствует себя несколько выбитой из колеи, поскольку, несомненно, впервые в жизни проводит время на курорте, — в то время это большая роскошь, — бабушка счастлива, что может завязать знакомство с многими дамами своего возраста, у которых опа обнаруживает ряд бесспорных достоинств, таких, например, как вдовство и умение вязать.
Я опять стал хорошо спать: голова едва успевала коснуться подушки, как глаза закрывались и открывались, когда я в комнате было уже светло, так что я опять, как в раннем детстве, начинал сомневаться, спал ли я вообще; и новый день я встречал радостно, на душе было хорошо и легко после глубокого сна, куда проваливаешься, как в колодец, и который, начисто отключая сознание, возвращает его тебе наутро новеньким и свежим.
Мы устремлялись к окну поскорее взглянуть на небо, и погода, конечно, была все время прекрасная, только менялись чуть уловимые оттенки света из-за соотношений его с влажностью воздуха; иногда поутру море затянуто пеленой тумана, который потом медленно растворяется, или висят ослепительно яркие облачка, которые, по мере того как разгорается день, бесследно истаивают в синеве. Потом бабушка одевала меня, а вернее сказать, надевала на меня пляжную сбрую и снаряжалась сама, стараясь как можно надежнее защититься от солнца, которого в те времена вообще опасались, и вот, нагруженные — я ведерком, корзинкой, сачком для ловли креветок, она шляпами, складными стульями, зонтиками от солнца, — мы переходили дорогу, взбирались на дюну, всю утыканную чертополохом и еще каким-то кустарником с белыми мохнатыми клубочками, которые входят в непременный состав сухих букетов, и спускались на пляж; наше появление неизбежно привлекало бы к себе внимание зрителей, если бы они были, но никаких зрителей вообще не было, или же они располагались очень далеко от нас, так что мы с полным правом могли считать этот участок пляжа своей собственностью. Мы представляли собой зрелище весьма примечательное, и не только из-за устрашающего объема нашего снаряжения, но и по причине ужасного, граничившего с манией преследования страха, который бабушка испытывала перед солнцем. Не довольствуясь раскрытым зонтом, она набрасывала на свою соломенную шляпу вуалетку и завешивала шею, руки и торчавшие из-под длинной юбки ступни бесчисленными шалями и платками. Эта странная запеленатая фигура выглядела бы более уместной в сцене перехода через Сахару, чем на пляже Атлантического побережья.
Защитив себя таким образом, она раскрывала книгу и пыталась читать, ни на минуту не забывая, однако, об исходящей от солнца и моря смертельной опасности, которой я все время норовил себя подвергнуть, то сбрасывая шляпу, то кидаясь раньше времени купаться. Тогда она вскакивала во всех покрывалах, которые, озорничая, разматывал ветер, махала, как семафор, руками, сопровождая это отчаянными криками, и мне приходилось с раздражением снова пристраиваться рядом с ней и возводить сооружения из песка, которые я самодовольно назьь вал замками, но занимался ими без особой охоты, главным образом для того, чтобы успокоить бабушку относительно моих намерений. Было совершенно невозможно ускользнуть от ее бдительного ока: я знал, что, стоит мне отойти от нее немного подальше, она поднимет на ноги всю округу, всполошит местные власти, снарядит спасательную лодку, корабль береговой охраны — словом, сделает нас всеобщим посмешищем. Женщина мужественная во всем, что касалось, так сказать, сухопутных дел, она чувствовала себя на море в чужой, враждебной стихии, ей постоянно чудились какие-то страшные катастрофы. Эти путы угнетали меня. Море влекло меня к себе — не то чтобы я был особенно чуток к тому, что принято называть красотой морского пейзажа, в семилетнем возрасте эстетические чувства развиты мало, но я уже постигал, вернее, угадывал в море нечто отвечающее моей склонности к пассивному созерцанию мира, меня увлекала эта вечная изменчивость неизменной стихии, где взгляд то и дело теряется, и снова обретает себя, и снова теряется; меня влекло к себе море, вбирающее в себя целиком твое сознание, море, что движется в своих цепенеющих ритмах — прилив, отлив, прибой, пульсация, усыпляющая зыбкость, подобная тому неясному томлению духа, когда медлишь покидать преддверие сна и разум растворяется в своей собственной стихии; все то, что будет потом завораживать меня в стоячей воде и что свявано, может быть, с притягательной силой небытия, со странной тоскою по той своей жизни, когда ты еще не родился на свет, и которая воплощалась для меня некогда в сладострастном погружении в сон, что на время сотрет, уничтожит тебя, — теперь все это снова каким-то чудом вернулось ко мне, напомнив, как тщетно я вглядывался в глубину двора, пытаясь что-то найти, разглядеть сквозь непрозрачное окно, которое было свидетелем моего рождения; было еще одно сходство с моим предрождением, дарованное мне морем, когда во время отлива оно обнажало, предлагало взгляду свое дно, не предназначенное для того, чтобы его видели, открывало его лишь на несколько часов, словно время двигалось вспять, позволяя нам обрести наше прошлое или хотя бы увидеть его, узнать, прежде чем закон, управляющий бытием, снова утвердится в своих правах. Это означает также, что меня влекло не бурное, грохочущее море, море крутых берегов, а печальное море маленьких бухт и скалистых островков, о которые разбивается неистовство волн, а когда высоко поднимается прилив, он затапливает все неровности рельефа, уничтожая все измерения и масштабы, и кажется, что озеро и лужа равны, и некое всемогущее, но великодушное божество предлагает тебе: «Вот здесь мои самые укромные тайники, исследуй их, погляди, что я прячу под покровом водорослей, — изобилие этих крохотных жизней позволяет мне щедро их расточать». На большом пляже бухточек не было. Лишь гораздо позже мы обнаружили одну из них в самом дальнем конце за холмом, обсаженным араукариями, разнокалиберные обломки скал прикрывали собой совсем маленький, словно рассчитанный на ребенка, клочок пляжа, а чуть дальше отлив обнажал рифовую плиту, отделенную от берега длинным протоком спокойной воды. Я полюблю именно там входить в море, медленно погружаясь в него до лодыжек, до колен, до бедер, до живота, выше живота, ощущая при этом легкое беспокойство оттого, что тебя сжимают, с каждым шагом поднимаясь все выше, холодные объятия воды, а вода здесь непрозрачна, и неизвестно, когда закончится этот спуск в неведомое; в глубине проходят какие-то струи, и от разницы температур возникает ощущение, что к тебе прикасается кто-то живой, враждебно ощупывая тебя своими пальцами, и ты не знаешь еще, чем тебе это грозит.
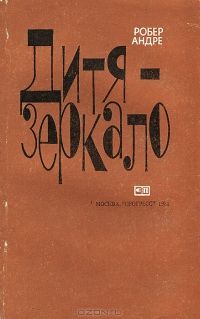


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

