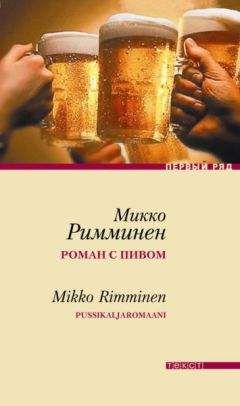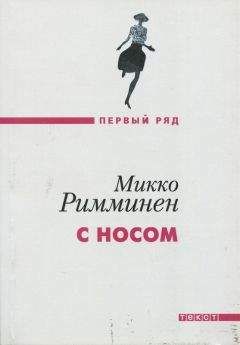А потом фонари вдруг снова погасли.
На этот раз их отключение не было столь драматичным, как во время грозы, когда неожиданно пропало все электричество, и все же это как-то обратило на себя внимание, может быть, потому, что сразу после отключения стало почему-то гораздо светлее, а не темнее, как обычно и вполне справедливо бывает в таких случаях.
Пришлось даже остановиться, чтобы это прочувствовать. Стало вдруг необыкновенно красиво и даже немного страшно, такое поистине искреннее, чистое, незамутненное чувство, словно тебя застигли врасплох в самой неестественной позе, в которой ты вдруг остановился.
На другой стороне футбольного поля в окнах высотных домов отражался поднимающийся на востоке алый росток нового дня, и можно было подумать, что восход — это всего лишь яркий, хорошо организованный праздник где-то там внутри здания. Мокрые машины с запотевшими стеклами, припаркованные по обеим сторонам улицы, выглядели декорациями к какой-нибудь рекламе лимонада, мигающие желтым глазом светофоры опять вернулись к полному циклу, казалось, они втянули в себя весь туман, что собрался вокруг них за то время, что земля была черной, а небо темным. Откуда-то издалека послышался звон трамвая, вероятно, это был один из тех двух, что целый день мотались туда-сюда перед глазами, в этом было что-то утешительное, но в то же время что-то ужасно печальное, ведь как представишь того бедолагу, что просидел всю ночь в кабине… И почему-то подумалось, что даже внутри этой скрипяще-гремящей машины можно найти истинный покой и умиротворение.
— Красивый город, — прошептал Жира, со скрытым восхищением в голосе и во всем его существе. Рот у него открылся, и было понятно, что говорит он на полном серьезе и даже несколько стыдится этой серьезности.
Хеннинен поднял больную ногу, сморщил лицо, немного покряхтел для важности и сказал:
— Пожалуй, ты прав. Красивый город.
А потом уже снова надо было идти.
Это был удивительный момент где-то посередине между двумя буднями, абсолютно пустой и, казалось бы, заранее обреченный стать поворотным моментом, от которого всегда ожидаешь каких-то предзнаменований, последнего вздоха, хлопнувшей двери или первого симптоматичного свиста в утреннем кашле курильщика. И все же он был пуст и безлюден и походил на кокон, в котором было все сразу: и промокший город, с которого медленно сходила дождевая мгла, отрываясь от земли, словно застрявшая на шипах туалетная бумага, как будто всемирное тяготение никак не хотело выпускать ее из своих объятий, и одинокий утренний свет, который еще как минимум часа два будет безуспешно стучаться в зашторенные окна и тереться носом о мокрые поверхности зеркальных небоскребов, внутри которых похожие на привидения уборщицы заканчивают свой рабочий день, катаясь на жужжащих поломоечных машин по гулким коридорам офисов.
На пешеходном переходе Хеннинен резко затормозил и остановился.
— Послушайте, — прошептал он.
— Слушаем, — демонстративно прошипел в ответ Жира и напряженно сгорбился, прямо как Хеннинен.
Прислушались. Откуда-то и правда что-то слышалось. Из ближайшего переулка доносился покрывающий все шум вентиляционных систем, сквозь который с трудом прорывался некий голос, скорее даже плач. Постояли еще некоторое время, а потом прошли несколько метров вперед, но, как только приблизились к дому на другой стороне улицы, этот голос как сгинул.
Хеннинен снова остановился.
— Он шел откуда-то отсюда, из-за поворота, — сказал он, повернулся и заковылял в обратную сторону, так что всем другим пришлось поторопиться, чтобы успеть за калекой.
Там на углу стоял газетный киоск, окна которого со стороны футбольного поля были заклеены малярной лентой, а за ним находился банкомат — этакий желтый козырек с большими, как у бабочки, железными крыльями, призванными обеспечить безопасность клиента. Из-под крыльев торчали две худые ноги в капроновых колготках, и плач, очевидно, доносился откуда-то из верхней части. Подошли ближе и остановились метрах в двух от банкомата. Верхняя часть плачущего существа по-прежнему была не видна.
— Хм, — произнес Хеннинен, и оно прозвучало как-то на удивление громко в этой пустоте. — Можем ли мы чем-нибудь помочь?
Всхлипы прекратились, а через некоторое время материализовалась наконец и верхняя часть безличных до этого момента ног.
По всем параметрам это было довольно нелицеприятное зрелище. То, что неожиданно выползло из-под ярко-желтых крыльев, оказалось банальным затасканным трансвеститом. На нем были красные туфли на каблуках, причем один каблук сломался и затерялся где-то по дороге, капроновые колготки, покрытые многочисленными «стрелками», что-то вроде юбочки и в заключение, над красным пиджачком из искусственной кожи, некое подобие лица, такое разочарованное и опрокинутое, что со всем своим съехавшим от слез килограммовым макияжем напоминало скорее оползень в горах.
В целом все существо было настолько неуклюжим и угловатым, что никакого другого определения не приходило в голову, кроме как «наспех срубленный топором», и это было так близко к действительности, что, кровоточь оно со всех сторон, никто бы не удивился.
— Что за б… — воскликнул было Жира, но тут же прикрыл рот рукой.
— Эта, — сказал Хеннинен. — Сорри.
— Мы тут мимо проходили и вот услышали, — выговорил наконец Маршал.
Парень снова разрыдался. Слезы лились из него с удивительным, учитывая, что проплакал он уже довольно приличное время, напором, брызгали во все стороны, как у клоуна, поэтому в конечном счете было довольно сложно решить, плакать ли вместе с ним, смеяться или просто охать от ужаса.
Наконец бедолага все-таки заговорил. Довольно зычным басом он пояснил, что у него на счету должно было быть столько-то и столько-то таких-то денег, он очень подробно все это описал, а потом когда закончил, то всем стало понятно, что теперь у него денег нет.
— Так ты поэтому рыдаешь, — сказал Жира, и в его тоне слышалось одновременно и разочарование, и сочувствие.
— Мне надо домой, а я живу… Бог знает где я живу, и мне надо ехать на такси.
На Хеннинена вся эта история оказала просто какое-то невероятное действие, возможно, потому, что он весь день старался быть рыцарем печального образа и теперь, снова вспомнив об этом, решил вести себя по-рыцарски.
— У нас там что-нибудь осталось? — спросил он и посмотрел на Маршала.
Снова пришлось залезть в мокрые карманы в надежде найти там хоть что-нибудь и, не найдя, пошарить еще для приличия какое-то время, а потом, с трудом вытащив руки наружу, печально развести ими в стороны и сказать, что, к сожалению, ничего нет.
— Неужели совсем ничего? — переспросил Жира. — Ведь света же не было и все такое.
— Ничего не осталось, то есть осталось совсем-совсем немного, я к тому, что ни на что не хватит, хотя, конечно, мы тоже о такси говорили, но сейчас стоит задуматься о будущем, то есть я к тому, что у меня похмелье, и я ужасно голоден, и вообще, блин, я страшно устал.
Это признание повисло в воздухе, как холодный туман, и все еще какое-то время его обдумывали.
— Я понимаю, — сказал парень-девушка через несколько минут и опустил голову. С его макушки свисали две длинные пряди, которые теперь прилипли к щеке и были похожи на темные царапины. — Конечно, я понимаю, дети мои, — повторил он.
После этого некоторое время просто молча стояли на месте в порыве какого-то охватившего всех и непонятно откуда взявшегося благоговения, и казалось, что можно так стоять до самого скончания веков, где бы оно там ни находилось, но в тот самый момент, когда мысль о том, где бы оно могло быть, только начала складываться, Хеннинен сделал нечто совершенно непостижимое.
Он шагнул вперед раз и другой, подойдя вплотную к парню, и сказал, что ему невероятно жаль, что все так случилось, и что, к великому сожалению, он не может дать ему денег, но что сердцем он всегда с ним. А потом он крепко и чувственно обнял его.
Все это вызвало полное остолбенение. Похоже, что не менее шокирован был и сам трансвестит, он снова зарыдал, но теперь все время повторял: «Ах вы мои золотые, ах вы мои золотые», а потом наконец и Хеннинен вдруг понял, что его совсем куда-то не туда занесло, осторожно высвободился из объятий, сказал, мол, всего хорошего, нам пора идти, и вернулся обратно к Жире и Маршалу, снова зацепившись за них, как возвращенная часть единого целого, и опять заспешили вперед, короткими шажками от банкомата к основной улице, Жира в очередной раз попытался пойти не в ту сторону, но ему не дали, а затем ряды выровняли и прошли полквартала, потом еще целый квартал и еще один, около странных, похожих на коробки для гаек домов свернули налево и стали подниматься в гору, на которой, собственно, все эти дома и топорщились, и только тут, в окружении маленьких, картонного вида домиков, построенных еще в начале пятидесятых, вдруг заметили, что проделали уже значительный путь, и подумалось, что можно несколько сбавить темп.