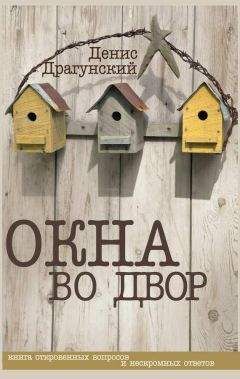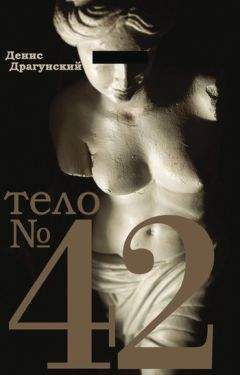Надо ли ему сочувствовать? Жалеть его?
Возможно.
Но сначала давайте научимся жалеть и любить себя. Мы не заслуживаем участи боксерской груши. Даже если нас бьет человек с трудным детством и горькой судьбой.
подмосковные, опять же, вечера..
Итак, взрослые гуляли, здороваясь и не здороваясь.
Дети помладше носились на велосипедах от одной взрослой компании к другой. Тоже свои степени и ранги: одни на «школьниках» другие на «орленках».
Дети постарше ходили своими группками. Спорили почти как взрослые: о книгах и о Ляльке Кармен. О нашей роковой Карменсите.
Лялька (на самом деле не Кармен, а Овчинникова) была главная красавица. Она была падчерицей Романа Лазаревича Кармена. Потом ее мама, красавица Майя Афанасьевна, ушла к Василию Аксенову.
Ляльку за это прозвали «дважды падчерица Советского Союза».
Она была красотка невозможная. Вылитая Мерлин Монро. Ей было двенадцать. Мне — четырнадцать. Мы целовались. Была ночь. В соседней комнате храпела домработница. Мы пошли на участок. Целовались там, валяясь на сухих ветках. И еще в разных местах целовались.
Потом Лялька мне изменила. Стала целоваться с другими.
Я высказал свое крайнее недовольство Роману Лазаревичу. Прямо пришел и спросил: что за дела? разве так можно? и вообще, как вы падчериц своих воспитываете?!
Сейчас я с изумлением вспоминаю, что Кармен спокойно, доброжелательно, а главное — долго, очень долго меня успокаивал и объяснял, что сердце красавицы склонно к измене и что не надо ссориться с приятелем, который повел Ляльку в кино, а потом — целоваться.
Ирочка Матусовская (ей было уже пятнадцать) назвала Ляльку словом «нимфетка». Объяснила нам, что это такое. Даже рассказала про Набокова.
Но Лялька не была нимфеткой, ни в коем разе. Она была именно что Мерлин Монро. Всеобщая мечта.
Я потом встретил ее в 1990 году в Калифорнии, в Сан-та-Монике.
Она была такой же прекрасной — но, увы, совсем взрослой. Ее звали уже не Лялька, а Алёна. Помню, у нее в визитке было написано — Alyona Grinberg. Фамилия бывшего мужа.
Мы выпили бутылку дешевого розового вина. И попрощались уже навсегда.
Юрий Маркович и Юрий Валентинович.
Нина Нелина, первая (рано погибшая) жена Юрия Трифонова, рассказывала моей матери. Дело было в конце пятидесятых. Уже схлынула слава Трифонова — автора «Студентов», а до повести «Обмен» было еще жить да жить. Вот Нина рассказывала:
— Представляешь себе, подружка говорит мне: «Ты среди писателей вращаешься, познакомь меня тоже с каким-нибудь писателем, я тоже хочу за писателя замуж. Ну, я не прошу какого-нибудь знаменитого или гения, а вот так — простого такого, нормального, среднего писателя. Ну как твой Юрка, например». Представляешь, сволочь какая! — со слезами говорила Нина. — Мой Юрка, значит, средний? Мой Юрка, значит, простой такой? Ах ты дрянь… Я ей так и сказала: «Мой Юрка еще всем покажет, а ты, дура, понимала бы чего!»
Трифонов всем показал. Жаль, Нина не дожила.
Трифонов не очень ценил Нагибина как писателя. Он говорил мне: «Юра увлекся сценариями. Конечно, заработки там другие, понятно. Но Юра совсем разучился работать над фразой. Юра никуда не сдвинулся со своих „чистопрудных“ рассказов, он не развивается, как прозаик».
Не знаю, насколько это было справедливо. Однако Трифонов в семидесятых — восьмидесятых был на вершине славы. Особенно среди интеллигенции. Нагибина читал народ попроще. Зато народа этого было побольше.
Моя мама рассказывала.
Писатель Z устроил большой званый ужин. Были там и Нагибин, и Трифонов.
А на следующий день к Алле (Алисе Григорьевне) Нагибиной зашла жена писателя Z. Еще какие-то дамы подошли. Сидели, пили чай в милой женской компании. И мадам Z сказала, делясь вчерашними впечатлениями:
— Да, какое счастье таких людей у себя в доме принимать. Вот, веришь ли, Алла, я Трифонову на тарелку салат накладываю, а у самой руки дрожат. Юрия Трифонова угощаю, ведь это вообразить себе! — Она вздохнула и доверительно добавила: — А из твоего Юрки настоящего писателя так и не вышло…
— Иди на хер, — сказала Алиса Григорьевна.
— Что? — не поняла мадам Z.
— Чашку поставь, — сказала Алиса Григорьевна, — и бегом на хер отсюда.
Мадам Z пожала плечами, встала, повернулась и вышла.
Вот, собственно, и все.
во дворе за столиком под лампой.
У моего отца есть рассказ «Человек с голубым лицом», про то, как мы попали в аварию. Авария была, только меня там не было.
Отец ехал в Москву, а вместе с ним — сосед Борис Костюковский, поселковые электрики Генка Иванов и Генка Мазуров и рабочий на все руки Коля Луковкин. Отец часто подвозил соседей и знакомых. В поселке это было принято.
Там, где сейчас пересечение Калужского шоссе с МКАД, разорвало правый передний баллон. Машина перевернулась, проехала десять метров на крыше и свалилась под откос.
Машина была Волга ГАЗ-21, самой первой модели, с оленем на капоте и звездой на радиаторе. Настоящий танк. Никто не убился.
Все решили, что они второй раз родились и теперь вроде как побратимы.
Костюковский быстро отпал: через неделю собрались выпить, а он не пришел. А вот оба Генки и Коля Луковкин надолго остались отцовскими друзьями-собутыльниками. Приходили довольно часто. Иногда очень поздно вечером.
Отец к ним выходил. Они сидели за столиком во дворе. Под низкой лампой — зеленые бутылки «Московской» и горы окурков «Беломора»: белые картонные мундштуки, обгоревшие с одного конца и обмусоленные с другого. Хлеб и соленые огурцы.
Генка Мазуров был чернявый, пузатый. Серьезный рабочий человек. Генка Иванов — русый, румяный, с голубыми глазами. Злой. Коля Луковкин — как из песни про желтую крапиву: худой, небритый, с широкой неопределенной улыбкой.
Года три прошло. Машину давно уже отрихтовали, облудили, перекрасили. А они все ходили выпивать. Правда, Генка Мазуров все реже. Солидный рабочий человек, я же говорю.
Однажды Генка Иванов пришел в воскресенье утром и просто-таки потребовал, чтобы отец вез его к теще в неблизкую деревню. Вот прямо сейчас. Отец отказался.
— Ты же мне названный брат! — возмутился Генка.
— Брат, брат, — сказал отец. — Но сейчас не выйдет. Мне некогда.
— Так, — сказал Генка, уставив одну руку в бок, а другой почесывая подбородок. — Некогда, значит… А может, поговорим?
Отец был очень силен и умел драться. Мама рассказывала, что он ее в буквальном смысле отбил у прежнего кавалера.
— Поговорим, — сказал он, вставая из-за стола. — Прямо здесь хочешь?
Генка сдал назад:
— Да нет, я в смысле, что если не можешь, то ладно.
— Ладно, ладно.
Потом Генка приходил мириться. Но уже в последний раз. А Коля Луковкин еще захаживал. То сам четвертинку приносил, то ему отец полбутылки ставил.
Я так и не понял, зачем отцу это было нужно. Для меня это загадка.
Мне было лет десять. Ну, одиннадцать. Но точно не двенадцать. Двое моих приятелей жили на даче писателя Бориса Костюковского. Это были дети то ли его родственников, то ли дачников. Неважно.
Важно, что на этой даче жила девушка Оля. Она была студентка медицинского института. «Оля — будущий доктор», — говорили все. Совершенно не помню, как она выглядела. Ну напрочь. Помню ситцевый сарафан, голые руки и неописуемый запах. Запах женщины. Нечто выше рассудка. Она обдавала меня этим запахом, проходя мимо и рассеянно-приветливо улыбаясь мне, и у меня кружилась голова. Я не знал, что это такое. Не осознавал и не выговаривал словами. Я просто чувствовал, что от этой Оли пахнет так, что я просто ошалеваю. Вкуснее, чем пенка от свежесваренного варенья. Чем мамины духи. Чем утренний запах первой папиной папиросы на прохладной веранде дачи… И что мне сильнее всего на свете, сильнее, чем прокатиться на мотоцикле, сильнее, чем научиться плавать на тот берег, чем поесть горячего хлеба с розовой колбасой и сладким чаем после целого дня беготни по лесу, — сильнее всего этого мне хочется, чтобы она хоть на секунду скинула свои летние разношенные туфельки.
Мне хотелось рассмотреть поближе ее босые ноги, пальцы в особенности. Мне казалось, что это и есть главное, тайное, сладостное. Я вертелся рядом. Я не сводил глаз с ее ног. Она улыбалась мне, поднимая глаза от книги, от толстого медицинского учебника.
Однажды у меня сильно заболел живот. Я прямо весь скрючился. А я как раз был у Костюковских. Какая-то ихняя тетенька расспросила меня, погладила по голове, велела прилечь на тахту и кликнула Олю: