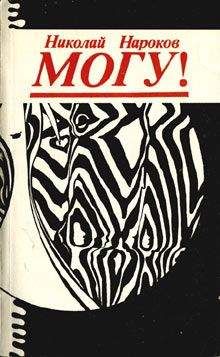Гранд Жюри утвердило мнение прокурора, и Виктор был отдан под суд по обвинению в убийстве первой степени. В освобождении под залог ему было отказано.
Местные газеты, конечно, подхватили это дело и начали сообщать читателям такие подробности, которые иной раз смешили Поттера, но чаще сердили и возмущали его. По словам газет, Георгий Васильевич был деспотом, ревнивцем и скрягой, мучил жену, держал ее чуть ли не взаперти и оскорблял подозрениями. Другая газета сообщала, что капризный и вспыльчивый Георгий Васильевич часто менял свое завещание: то оставлял наследство жене, то жертвовал его на дела благотворительности. Последнее же завещание, многозначительно утверждала газета, было составлено на имя Юлии Сергеевны, и изменить его Георгий Васильевич не успел, хотя и собирался это сделать, поссорившись с Юлией Сергеевной незадолго до убийства.
Елизавета Николаевна, читая все это, терялась и пугалась.
— Да что же это такое? — ничего ни понимала она. — Да как же это так возможно? Да разве позволяют так лгать?
Табурин сжимал кулаки и зубы и, не говоря ни слова, угрожающе мычал. Он все время боялся за Юлию Сергеевну и настороженно поглядывал на нее.
Когда она узнала об аресте Виктора и об обвинении, которое ему предъявлено, она не изменилась в лице, не пошатнулась и даже не вздрогнула, а только побледнела. Посмотрела на Табурина и молча ушла в свою комнату. Целый день провела одна, а вечером вышла, нашла Табурина и подошла к нему.
— Я это знала! — почти неслышно, одними губами сказала она.
— Что… Что вы знали? — и понял, и не понял Табурин.
— Вот то, что это… Виктор убил! Когда мама сказала, что убили, я тогда же… в ту же минуту подумала: «Это — Виктор!» Да? Ну, конечно же, — да!
И, не дав Табурину ответить ни слова, повернулась и опять ушла к себе.
А потом, когда в газетах начали писать оскорбительные вымыслы, она не протестовала, не возмущалась, а только закусывала себе губу и с потемневшими глазами глухо говорила странное:
— Так и надо! Вот именно так мне и надо! Так и надо!
— Вздор! — свирепо вскакивал со своего места Табурин и начинал размахивать руками. — Колоссальный вздор и… и глупый к тому же! В нем нет никакого смысла! За что вас казнить? За что вы сами себя казните?
— Вы знаете, за что!.. — еле слышно, но твердо и уверенно отвечала она.
Поттер был удовлетворен, его поздравляли с успехом, и он сам был доволен собой. Но была маленькая мелочь, незначительный пустяк, который тревожил и озабочивал его. И он слишком часто вспоминал об этом пустяке и незаметно для себя задумывался над ним.
Когда арестованного Виктора вели из дома к полицейскому автомобилю, он шел растерянно, ничего не понимая и опустив глаза. Поттер шел рядом, искоса поглядывая. И вдруг Виктор увидел мохнатую гусеницу, которая, словно бы покачиваясь на ходу, медленно ползла как раз перед ним. Он уж поднял ногу, чтобы сделать следующий шаг, уже готов был опустить ее (как раз на гусеницу), но тотчас же, в какую-то долю секунды, на ходу занес поднятую ногу немного дальше, нелепо ковыльнул телом от неловкого движения и успел перешагнуть через гусеницу, не раздавив ее. Сам он, кажется, не заметил всего этого, но внимательный Поттер заметил и запомнил.
И вот этот пустяк чем-то мешал ему и что-то опровергал в нем.
Арест Виктора, предъявленное ему обвинение и раскрытая тайна пуговицы-волоса вызвали странное в Юлии Сергеевне. Конечно, она была сражена, но вместе с тем она чувствовала в себе такое, что было похоже на облегчение и даже на удовлетворение. Она чувствовала, будто струна, которая во все последние дни все туже и туже натягивалась в ней, вдруг ослабела. На место мучительных метаний последних дней пришла ясность: губительная и страшная, но несомненная. И эта несомненность несла с собой успокоение.
Раньше, до ареста Виктора, Юлия Сергеевна еще не знала о волосе и пуговице, но зато она знала то, чего не знал ни Поттер, ни кто-либо другой, и что она называла «разрывом с Виктором». И этот разрыв объяснял ей все. «Я ушла от него, — шептала она себе, — а он… чтобы вернуть меня… Нет, не вернуть, а чтобы открыть мне дорогу!.. Ведь он же знал, что я и сама хочу вернуться, что я все та же! И вот, чтобы открыть мне дорогу, он…»
Она прогоняла эти мысли, но помимо своей воли возвращалась к ним и всматривалась в них. И чем напряженнее всматривалась, тем меньше сомневалась. «Георгий Васильевич мешал и раньше, — думала она, чувствуя боль от слова «мешал», — но когда его руке стало легче, Виктор понял, что я теперь уже ни за что… Ни за что! Останусь с Георгием Васильевичем и все сделаю, чтобы помочь ему выздороветь! Он знал, что я теперь уж ничего не допущу, никакого «больше»… Ничего! Никогда! Все оборву и… Только Горик, только он один! Виктор все это знал, не мог не знать, а поэтому…»
«Только Горик, только он один!» Эта мысль и это чувство были в ней непоколебимы, и она не сомневалась ни в них, ни в себе. «Разная» любовь была в ней действительно разной: не по силе, но по сути, по природе и по наполнению. «К Георгию Васильевичу у меня любовь-дружба, любовь-преданность, — пыталась она объяснить себе, — а к Виктору — любовь-влюбленность. Георгия Васильевича я люблю сильнее, но… иначе!» Она и раньше знала, что ни одно из ее чувств не мешает другому и не уничтожает другого, но когда страшное обвинение начало кричать в ней, она с болью чувствовала, со страданьем чувствовала, как бесконечно дорог был ей Георгий Васильевич. И тогда даже что-то ненавистное к Виктору охватывало ее.
И вместе с тем ей казалось, будто она совершает преступление, будто она изменяет Виктору и всему их прошлому: коротким встречам на «нашей площадке», всем сказанным словам и робким ласкам. Она чувствовала себя так, как чувствует себя предатель и, бессильная справиться с хаосом, презирала себя за то, что «подлые мысли» все же приходят к ней и овладевают ею.
Пока Виктор не был арестован, она видела в своих «подлых мыслях» врагов, ненавистных и ненавидящих, не верила им и пыталась бороться с ними. И ей хотелось просить у Виктора прощения. Но тотчас же вспыхивало подозрение: «А может быть, это — он?» И она маялась в тоске: «Неужели это — он? Нет, нет, не он!»
Когда же Виктор был арестован и когда она узнала о пуговице и о волосе, то на смену метущихся догадок пришла уверенность. Все встало на место, метаний больше не было. Было нестерпимо больно, было до отчаянья страшно, но все же стало легче оттого, что все стало несомненно.
* * *
— Нет, нет и нет! — уверенно и решительно гремел Табурин, то ходя твердыми шагами по комнате, то вдруг внезапно останавливаясь, делая угрожающие глаза и вороша волосы. — Нет, нет и нет! — рубил он воздух ребром ладони. — Виктор не виноват! Георгия Васильевича убил черт, а не он! Черт! Черт! Черт!
Юлия Сергеевна сидела в углу дивана, прижавшись к спинке. Сплетенными пальцами она охватила согнутое колено и медленно, почти незаметно покачивалась, вряд ли замечая, что покачивается. Ее лицо застыло, не выражая ничего, и даже можно было подумать, что оно спокойно и безразлично.
— Вы многого не знаете, милый Борис Михайлович! — ровным голосом сказала она, думая о своем «разрыве».
— И не надо! И не надо мне знать вашего «многого»! — взъярился Табурин. — Важно не то, чего я не знаю, а важно то, что я знаю!
— А что же вы знаете?
— Одно, но несомненное и решающее!
— Что же?
— То, что Виктор не убивал! То, что он не мог убить! Вот, что я знаю!
Он изо всех сил подчеркнул это «не мог». Подчеркнул так, что Юлия Сергеевна подняла глаза и посмотрела на него.
— Колоссально не мог! — продолжал греметь он. — Скорее я поверю в то, что солнце восходит на западе, а дождь падет с земли на небо! Виктор убил? Этого не могло быть! Вздор, вздор и вздор! Грандиозный вздор! Невозможная нелепица, какой я еще в жизни не слышал!
— Но ведь это же доказано: пуговица и волос! — возразила Юлия Сергеевна таким тоном, как будто она убеждала не его, а самое себя. — Вам этого мало?
— Мало! — еще несдержаннее загремел Табурин. — Пуговица? Это нуль! Волос? Ничто! Колоссальное ничто! Может быть, — чуть-чуть умерил он себя, — может быть, они сами по себе и много значат, но… по сравнению! Понимаете вы меня? По сравнению они — ничто!
— По сравнению с чем?
— С человеком! Слышите? С че-ло-веком!
— Я вас не понимаю…
Табурин' так свирепо подпрыгнул на кресле, что зазвенела какая-то пружина. Подпрыгнул и уставился на Юлию Сергеевну возмущенными» негодующими глазами.
— Конечно! — с преувеличенным сарказмом не сказал, а прошипел он. — Где же вам понять меня! Невозможно вам понять меня, потому что у нас с вами разные боги! Да-с! Ваш бог — пуговица, а мой — человек! Когда вам говорят — «пуговица», вы это понимаете, а когда я вам говорю — «человек», вы меня понять не можете!