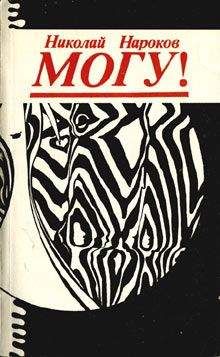— Из-за росы. Он залюбовался росой, как она блестит под утренним солнцем.
— Почему вы вспомнили об этом? Что вы хотите сказать?
— Почти ничего, но… многое! Вы только представьте себе человека, который забывает о важном и нужном деле, а стоит перед росой и любуется ею, потому что она блестит очень уж светло и красиво. Вы такого человека видите? Понимаете его? Конечно, понимаете! А теперь представьте себе другого. Этот другой замыслил убийство. Сидит дома и спокойно все обдумывает: как вас в Канзас-Сити вызвать, как оставить окно открытым, как перчатки надеть на руки, чтобы следов не оставалось… Все, все обдумывает! А потом ночью приезжает, крадется через темные комнаты, затаивает дыхание, входит в спальню… Душит подушкой! И вот теперь возьмите вы этого первого и этого второго человека и соедините их. Соединяются они? Можно представить себе, что оба они — один и тот же человек? Да ведь это противоестественное соединение! Колоссально противоестественное, немыслимое, невозможное! Естественнее и легче соединить Бабу Ягу и нежность, хищность и мотылька, дьявола и христианскую любовь… Да-с, легче! Естественнее!
— Да, да! Да, да! — немного заволновалась Юлия Сергеевна. — И я рада, что вы все это говорите… И очень благодарна вам… Но… Но вы не знаете другого, милый Борис Михайлович! Вы не знаете главного!
— Чего я не знаю?
— Накануне… Нет, не накануне, а за два дня до убийства… Я тогда сказала Виктору — «Прощайте!» И он знал, что я сказала это ради Георгия Васильевича.
— Так что же?
— Разве вы не понимаете? Я сказала это ради Георгия Васильевича!
— Очень даже я все это понимаю, но… Но что это меняет? Разве Виктор стал из-за этого другим? Таким, который может задушить? Из-за вашего «прощайте» он мог убить себя, но убить другого?.. Нет, нет! Другого он не мог убить ни без «прощайте», ни с этим самым «прощайте!».
Юлия Сергеевна опять ничего не ответила. Но повернулась и посмотрела на Табурина. И он увидел: это были уже не те глаза, какие были и пять, и десять минут назад. В них был вопрос, но в них была и надежда. Юлия Сергеевна не просто смотрела, а искала взглядом, сомневаясь и колеблясь. А потом протянула Табурину руку и, опять опустив глаза, слегка пожала ему пальцы и тихо произнесла:
— Как я вам завидую! Если бы вы знали, как я вам завидую!
У Табурина была непоколебимая уверенность в невиновности Виктора, но у него ничего не было в руках и никакого другого объяснения убийства он дать не мог. Даже его неудержимая фантазия ничего не подсказывала ему. Кто убил? Почему убил?
С самого начала он сказал, что будет «колоссально думать». И он думал: постоянно, напористо и даже с оже-стечением. Но все его мысли были случайны, обрывисты и бессвязны: то одно придет в голову, то другое. И он уверенно сказал себе, что «надо думать методически, т. е. пользоваться методом исключения… Надо исключить всех, кто не мог этого сделать, и взять на мушку только тех, кто мог!» — решил он.
Раньше всего он исключил всех посторонних, т. е. тех, кто не стоял близко к дому. «Это же очевидно! — не сомневался он. — Ведь убийца знал две вещи: во-первых, то, что Юлии Сергеевны в эту ночь не будет дома, и Георгий Васильевич останется в спальне один… И, во-вторых, он знал, что окно в гостиной будет только закрыто, но не заперто. Значит, это был свой человек!». Но оставив под подозрением только «своих», он чуть ли не растерянно увидел, что всех их тоже надо исключить. «Не я же убил в самом деле, и не Елизавета же Николаевна! — очень быстро зашел он в тупик. — Конечно, многое говорит против Виктора, я это признаю, но Виктор не мог убить, и, значит, о нем и говорить нечего. Кто же? Кто? Не Софья же Андреевна! Ей-то зачем могло быть нужно это убийство?» И, исключив всех, он увидел, что думать ему не о ком. И опять в голову стали приходить только случайные, обрывистые мысли, вернее — вымыслы, которые ничего не давали и ни к чему не приводили.
Но вместе с тем его все время мучило что-то нелепое и бессвязное, чего он не мог даже назвать, а говорил неопределенно — «чутье». И, подчиняясь этому чутью, а не разуму и логике, он все чаще задумывался. «Все может быть! Все может быть!» — бормотал он, не зная, что же в самом деле может быть.
Через два-три дня после ареста Виктора он как-то ехал по улице и вдруг увидел, что слева его обогнал другой автомобиль. Он сейчас же узнал его: автомобиль Софьи Андреевны. «А ведь это она не домой едет, а из дома!» — ненужно сообразил он, и сразу же случайная мысль, вернее — намек на мысль, пришла ему в голову. «Значит, Миша сейчас один… Попробовать, что ли? Конечно, ничего нет и быть не может, но почему же не попробовать?» И тотчас же, с той уверенностью и непосредственностью, с какой он всегда приходил к решениям, он повернул назад и нетерпеливо поехал.
Подъехал к дому Софьи Андреевны, выскочил из автомобиля и позвонил. Миша встретил его в дверях.
— Давно не видел вас! Колоссально давно! — приветливо потряс ему руку Табурин, стоя перед дверью и рассматривая Мишу. — Что это вы малость похудели? А Софья Андреевна дома?
— Нет, ее нету…
— Эк! — досадливо крякнул Табурин. — И вот всегда со мною так бывает: либо дома не застану, либо опоздаю… Конечно, надо было мне предварительно созвониться с нею, да я почти рядом был, так вот и заехал наудачу, по дороге… — посчитал он нужным объяснить. — А не знаете, Миша, она скоро вернется?
— Кажется, только вечером… Она сказала, что вечером!
— Ну вот… Значит, и дожидаться нечего. Досадно!
И, сказав, что дожидаться нечего, он не повернул назад, и не ушел, а слегка отстранил Мишу и вошел в дом. Остановился в комнате и бесцеремонно стал осматриваться. Миша с удовольствием смотрел на него, слегка улыбаясь и чего-то выжидая. Он был рад видеть Табурина, тем более — так неожиданно. Табурин всегда привлекал его: и тем, что он был такой независимый, и тем, что он был всегда готов противоречить и спорить, и тем, что он был ласков, благожелателен и открыт. Мише (особенно тогда, когда ему было тяжело и «противно») хотелось видеть именно Табурина. Ему казалось, что если бы Табурин «все знал», то он сказал бы или сделал что-то такое, от чего многое разрешилось бы и стало другим. Конечно, он сам ни за что не посмел бы рассказать ему свое «все», но рассказать очень хотелось, и он втайне думал, как он расскажет и как Табурин распутает ему непосильные узлы, что-то отвяжет от них, что-то отрежет и, главное, разъяснит. Он чувствовал в Табурине ту мужскую силу, которой в нем самом еще не было. И был рад тому, что Табурин так нежданно приехал, сейчас сядет вот тут и, конечно, будет с ним разговаривать.
Табурин осмотрел стены, потолок и мебель, повалился в кресло, прочно уперся ногами в ковер, ласково посмотрел на Мишу и улыбнулся.
— Ну-ну… Так что же?
— Ничего… — застенчиво пожал плечами Миша, сомневаясь, может ли он смотреть на Табурина.
— Ничего? — переспросил тот. — Не люблю я этого слова: ведь из ничего никогда не выйдет ничего.
Он достал из кармана непочатую пачку сигарет, подцепил ногтем синюю бандерольку, сорвал ее и аккуратно открыл пачку, тщательно расправив сгибы. Миша следил за ним, и каждое движение Табурина ему нравилось.
— А ведь вы не так раскрываете пачку, как все! — вдруг заметил он, обрадовавшись, что нашел, о чем заговорить.
— А как же надо иначе?
— Не «надо», а… Я видел, что все просто обрывают уголок и через него достают сигарету. А вы не как все, а как-то по-своему!..
— Да позвольте мне хоть сигарету-то достать не «как все»! — притворился рассердившимся Табурин. — Ей-Богу, с ума можно сойти от этого «как все»! И что это за страсть к стадности у нас появилась: обязательно — «как все»! А ведь от этой стадности бежать и спасаться надо, потому что в ней человек гибнет: растворяется, обезличивается и… и одним словом, — нет его!
— Да, да! Да, да! — понял его мысль и обрадовался Миша.
Он хотел что-то добавить, сказать свое, но не решился и смолчал.
— Такие-то вот дела! — шумно выпустил дым изо рта Табурин. — Но сейчас меня эта самая стадность ничуть не интересует, потому что у меня только одно в голове сидит: вот это убийство.
— Ах, да! — с искренней болью подтвердил Миша. — Это так ужасно!
— Еще бы не ужасно!.. Вы ведь знаете, обвиняют нашего Виктора… Конечно, улики против него несомненны, об этом спорить не приходится, а вот мне все же как-то не верится! Я вот и хотел поговорить с вашей тетей. Она ведь как-никак последняя, кто был там перед убийством и, может быть… Что она думает?
— Я не знаю…
— Но о том, что Виктор арестован, вы ведь знаете? Софья Андреевна знает?
— Да… В газетах было!..
— И Софья Андреевна ничего об этом не говорила?
— Она сказала, что и раньше знала, будто Юлия Сергеевна и Виктор… — начал было Миша, но спохватился, густо покраснел и замолчал.