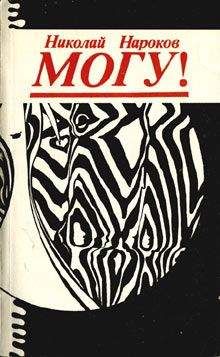Он смотрел так ожесточенно и говорил так яростно, что казалось, будто он в эту минуту ненавидит Юлию Сергеевну и готов в своей неукротимости обругать или даже ударить ее. Но чуть только он взглядывал на нее, тотчас же и лицо, и взгляд менялись: в них появлялась боль и нежность, любовь и сострадание.
Он не выдержал, вскочил с места и опять забегал по комнате. Пробежал раза два вперед и назад, остановился и впился глазами в Юлию Сергеевну.
— Пуговица? Да? Пуговица? — язвительно выкрикнул он.
— Сядьте! — тихо попросила она. — Сядьте и скажите толком, без выкриков… Что вы хотите сказать?
— Я… Я, конечно, скажу, а сесть не сяду: не могу я сейчас сидеть! Я сейчас так переполнен, что боюсь взорваться, а вы говорите — сядьте! Это для меня сейчас непосильно!
Он пытался стоять на месте, но все же резко, прыжками перекачивался с ноги на ногу, и видно было, что даже стоять он не может, а должен бегать по комнате. Но удерживался и только размахивал руками: широко и безудержно. Казалось, что именно в этом размахивании и заключается вся сила его убедительности.
— Вы знаете Виктора, и я его знаю! — продолжал неудержимо греметь он. — Мы оба его знаем! До конца знаем! Знаем, какой он по своей природе, по нутру, по сути, по сердцу, по печенке и по селезенке! Да? Знаем? Не сомневаемся? Так вот, давайте подумаем глубоко и проникновенно: мог ли такой человек, как Виктор… убить? — и голосом, и взглядом, и руками подчеркнул он каждое слово своего вопроса, а спрашивая последнее слово — «убить», выпрямился во весь рост и запрокинул голову. — Убить? — патетически переспросил он с усиленным натиском. — Виктор? Виктор и… убить?
— Но ведь вы же знаете! — с болью вырвалось у Юлии Сергеевны. — Ведь волос же его, и пуговица его!
— Его? Да! Конечно, его! Но сам-то он чей? — опять подпрыгнул Табурин. — Сам-то он чей? «Его» или не «его»? Сам-то он свой или чей-нибудь чужой? Или так: по документам он — Виктор Коротков, а по духу — циничнейший душитель? — грозно спросил Табурин. — Нет, нет, нет! Вы не так ставите вопрос, как надо! Вы поставьте его независимо от всех пуговиц и волос, поставьте иначе, вот так: мог ли такой человек, как Виктор, убить? И я отвечу вам без всякого колебания: нет, не мог! Почему? Именно потому, что он не такой, чтобы убивать. Природа его не такая, дух его не такой! Понимаете? Если вы мне скажете, что ягненок рассвирепел и растерзал цыпленка, то я и руками, и ногами буду отбиваться: нет, нет и нет! И какими бы пуговицами и волосами вы ни доказывали, что он все же растерзал, я изо всех сил буду кричать: нет! И не потому, что ягненок слаб, а потому, что его ягнячья душа не такая! А в душе-то все дело, все в ней зарождается и все из нее выходит! Ягнячья душа не может потребовать: «Напади! Загрызи! Растерзай!» И дело не в том, что у ягненка ни клыков, ни когтей нет, а только в том, что у него нет ни одного такого нерва, который восхотел бы борьбы, крови и убийства! Вы понимаете, что я говорю? А поэтому колоссальные миллионы пуговиц и грандиозные миллиарды волос ничего мне не докажут: ягнячья природа для меня доказательнее и убедительнее всех пуговиц и волос мира! — так рьяно выкрикнул он, что даже полы пиджака у него распахнулись.
И замолчал. Но помолчал только несколько секунд, а потом заговорил снова, но спокойнее и ровнее.
— Но я знаю не только ягненка: я знаю и Виктора. Я его знаю лучше, чем ягненка, а поэтому и не колеблюсь. Мог ягненок растерзать? Нет! Мог Виктор убить? Еще более — нет! Почему? Потому что он не такой человек! Не потому, что волос и пуговица что-то говорят, а потому, что природа Виктора говорит другое! Вот что!
Юлия Сергеевна опять подняла глаза: нерешительно и неуверенно. Она и разумом, и чувствами была готова согласиться с Табуриным, была даже рада согласиться с ним. Каждое его слово было для нее справедливо и несомненно, но пуговица казалась ей несомненнее. И она только подняла глаза и посмотрела, но ничего не сказала в ответ.
— Вы предположите на минуту такое! — неудержимо продолжал свое Табурин. — Предположите, что Виктор — безрукий! Кто тогда подумал бы, что задушил он? Такая мысль даже безумцу не пришла бы в голову, не правда ли? «Нет руки» — это каждый понимает, а вот то, что у Виктора ни в мозгу, ни в сердце, ни в совести нет ни одной такой клеточки, которая могла бы толкнуть его на убийство, этого мы не умеем понимать! Вы можете допустить, что Патрокл струсил в бою и убежал с поля битвы? Что Филемон изменил своей Бавкиде и ушел жить с какой-нибудь фиванской торговкой? Что Роланд предал Карла? — яро наскакивал он на Юлию Сергеевну. — Нет, мы этого не можем допустить, потому что не такие это были люди! Слышите? Не та-кие лю-ди! Патрокл не мог струсить, Филемон изменить, а Роланд предать! И никакие пуговицы вас не поколеблют, вы никогда не будете сомневаться в отваге Патрокла и в верности Роланда! Так почему же вы сомневаетесь в Викторе? Почему?
Трудно сказать, ждал ли ответа Табурин. Но он остановился, словно выжидал и давал Юлии Сергеевне время сказать то, что она хочет и то, что ей самой надо сейчас сказать. Но она молчала. И от этого Табурину стало больно и грустно, как будто Юлия Сергеевна в чем-то обманула его, как будто она что-то обидела в нем. Весь его запал прошел, и он опустился на кресло и тоже замолчал, упорно глядя в пол.
— Как это странно и как это безнадежно! — задумчиво заговорил он. — Мы всегда и во всем судим не по человеку, а по какой-нибудь пуговице. Пуговица говорит: «Убил Виктор!». А человек, который живет в нем, говорит: «Нет, он не мог убить!» И мы верим пуговице! Вы заметили? Вы заметили это? Во всем и всегда мы верим пуговицам больше, чем человеку. Все эти пуговицы выперли вперед, приказывают нам и подчиняют нас так, словно и мы сами стали уж не людьми, а пуговицами! Пуговицы настолько обнаглели, что стали нашим мерилом и компасом, а человек… Человек где-то сзади, в тени пуговиц, мы на него не смотрим, не видим его и… всегда забываем его!
— Но…
— Мы учитываем все! — так сильно вцепился Табурин в свою мысль, что перебил Юлию Сергеевну на первом же слове. — Мы всегда учитываем в человеке все: социальные и экономические условия, полученное воспитание и влияние среды, наследственность и слабость желудка… Все, все у нас учтено в человеке, кроме… кроме самого человека! Как это страшно, как это грандиозно страшно!
— Значит, вы…
— Убил не Виктор! — прижал обе руки к груди Табурин и посмотрел на Юлию Сергеевну так, словно умолял поверить ему. — Я покамест не знаю ничего, но главное я знаю непоколебимо: убил не Виктор! Не он убил, потому что он не мог убить! Это… Это… Это психологическое алиби, самое строгое и безусловное алиби! Строже и безусловнее не бывает и быть не может. А мы с вами с ним не считаемся, потому что оно, изволите ли видеть, относится не к факту, а к человеку. А человек разве не факт? И я… И мне… Что бы мне ни говорила эта проклятая пуговица, я ей не поверю, потому что я верю в Виктора!.. Позвольте мне верить в Виктора! — жалобно и умоляюще попросил он и опять прижал обе руки к груди.
Юлия Сергеевна молчала. Она тоже хотела верить в Виктора, но пуговица и волос были сильнее желания верить и самой веры. Как бы подавленная ими, она опустила голову еще ниже, совсем низко. И, не поднимая глаз, спросила тихо и глухо:
— Так кто же убил?
— Я уже сказал вам! — ни на секунду не задумался Табурин. — Кто убил? Черт! Вы, конечно, потребуете, чтобы я доказал? Нет, не могу доказать! — безнадежно развел он руками. — Не могу! Ни одной пуговицы у меня нет! Но пусть меня гром разразит, если убил не он, не этот самый черт!
Юлии Сергеевне вдруг показалось, будто она знает, о каком черте говорит Табурин. И от этого ей сразу стало страшно. Она невольно огляделась: кто здесь есть кроме их двоих? Ее охватило ощущение, будто что-то злое встало перед нею, такое, которое было и раньше, всегда было, незаметное и притаившееся, но неизбежное и гнетущее.
Табурин сидел рядом с нею, очень близко, повернувшись и лицом, и всем телом. И ей хотелось, чтобы он ласково и нежно обнял ее. Не мама, а именно он, несуразный и несдержанный, но такой близкий и нужный сейчас. Нужный своей любовью к ней и своей верой в Виктора.
Но он не обнимал, а только вытянул руки вдоль спинки дивана, позади плеч Юлии Сергеевны, и бережно не касаясь их.
— Помните ли вы… — начал он, и Юлия Сергеевна услышала другой голос: сердечный и душевный. — Помните ли вы, как давно, летом еще, Виктор должен был куда-то поехать по важному делу, но опоздал на автобус и не поехал. Помните?
— Помню! — качнула головой Юлия Сергеевна.
— А почему он опоздал? Помните?
— Помню!..
— Из-за росы. Он залюбовался росой, как она блестит под утренним солнцем.
— Почему вы вспомнили об этом? Что вы хотите сказать?
— Почти ничего, но… многое! Вы только представьте себе человека, который забывает о важном и нужном деле, а стоит перед росой и любуется ею, потому что она блестит очень уж светло и красиво. Вы такого человека видите? Понимаете его? Конечно, понимаете! А теперь представьте себе другого. Этот другой замыслил убийство. Сидит дома и спокойно все обдумывает: как вас в Канзас-Сити вызвать, как оставить окно открытым, как перчатки надеть на руки, чтобы следов не оставалось… Все, все обдумывает! А потом ночью приезжает, крадется через темные комнаты, затаивает дыхание, входит в спальню… Душит подушкой! И вот теперь возьмите вы этого первого и этого второго человека и соедините их. Соединяются они? Можно представить себе, что оба они — один и тот же человек? Да ведь это противоестественное соединение! Колоссально противоестественное, немыслимое, невозможное! Естественнее и легче соединить Бабу Ягу и нежность, хищность и мотылька, дьявола и христианскую любовь… Да-с, легче! Естественнее!