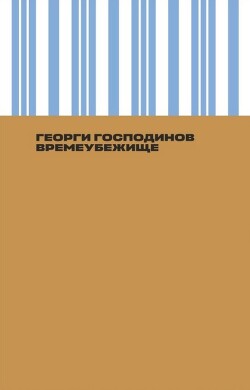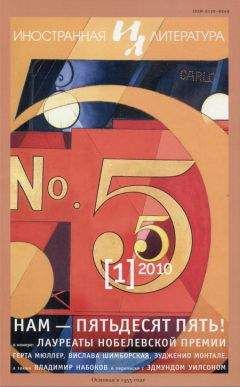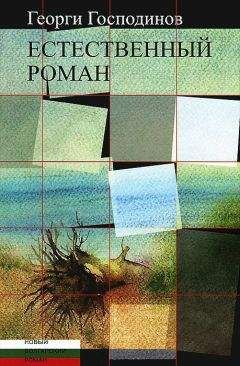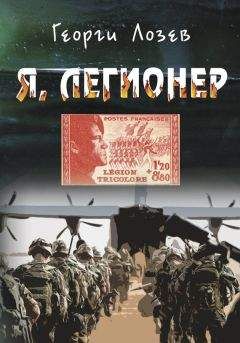Первая часть, «Хрустальная литургия», начинается утренним пением птиц. Кларнет имитирует пение дрозда, а скрипка вступает после него пением соловья — бесконечным, повторяющимся, одновременно сладкоголосым и тревожным и в то же время напряженно-спокойным.
Во время войны тоже пели птицы. В этом-то и ужас… И вместе с тем утешение.
41
Екклесиаст учит нас, что всему свое время — для всего своя пора. И вдруг в последней главе своей Книги провозглашает конец времени. В Откровении Иоанна говорится: «И видел я другого ангела, сходящего с неба… В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед…»
Так что, когда мы говорим «проглотил книгу вместе с обложкой», где-то звучит эхо и Его голоса.
(Помнится, в молодости, будучи заядлым читателем, я однажды сжевал одну страницу уже не помню какой книги, кажется сборника стихов — там меньше типографской краски. Она начала горчить уже во рту.)
И именно тогда ангел возвещает, что времени уже не будет. Но не о конце мира он говорит, а о конце времени.
И откроются клетки дней, и все времена соберутся в одно…
И тогда Бог воззовет прошедшее.
42
Вся моя жизнь как бы сшита из других жизней. И та жизнь, которую я живу сейчас, тоже чья-то, не знаю чья. Иногда я чувствую себя чудовищем, собранным из разных времен. Сижу в чужом городе под вой сирен пожарных машин, будто он всегда объят пламенем. Провожу все свое время в библиотеке этого города, в холодной читальне под нарисованным небом, обложившись энциклопедиями со всего мира — в красных обложках с золотыми буквами. Читаю старые газеты и разглядываю лица людей. Все время боюсь, что вот сейчас появится кто-то и, оглядевшись, направится прямо ко мне…
Каждое утро я прихожу в библиотеку, библиотеку мира. Заказываю все газеты, вышедшие в один и тот же день 1939 года. Мне там все знакомо, я там уже был, сидел в пивнушке на Пятьдесят второй, мок под дождями той осени. Газета — всего лишь портал. Прошлое с часовым механизмом, который обязательно нужно обезвредить, скрывается в мелком и незначительном. Где-то там, среди сообщений о сезонных скидках и статей о противогазах в немецких школах с большой фотографией на третьей странице «Нью-Йорк таймс» (все ученики одной гимназии, построенные перед зданием школы, держатся за руки. Их лиц не видно из-за надетых противогазов). Я посмотрю, что предлагают в киносалонах и вечерних заведениях, посижу в баре «Чинзано» на тридцать седьмой странице, включу новый радиоприемник «Эмерсон» без электропроводов и антенн, всего за 19.95 доллара, и послушаю последние зарубежные новости. Останусь на ночлег в маленьких объявлениях о комнатах внаем в Нижнем Манхэттене и буду рассматривать лица людей, появившихся в вечерних светских хрониках. Нельзя ничего пропускать, именно там триггер в последний августовский вечер… Твой Г.

Я стою у окна с письмом в руке, одновременно отправитель и получатель, читаю и думаю, что мир всегда чуть-чуть отстает от первого сентября. Он все еще в конце лета, с рекламами в газете на фоне далекого гула еще не начавшейся войны… Мир проживает вторую, послеполуденную половину дня, когда удлиняются тени под исчезающим солнцем до того, как наступит вечер и опустится мрак.
43
Пока ты помнишь, прошлое стоит в стороне. Ты как будто разжег костер посреди ночного леса. Вокруг бродят демоны и волки, звери прошлого сужают круг, но все еще не смеют переступить черту. Аллегория прозрачна. Пока огонь памяти горит, ты — хозяин. Как только он начнет затухать, вой усилится и звери подползут ближе. Это свора прошлого.
Чем меньше памяти, тем больше прошлого.
Незадолго до конца времена перемешаются. Ибо клетки открыты и все твари выползут наружу… «Если не будет дней, где нам жить?» — спрашивал один поэт… Как же его звали? Но дней нет. Календарь исчез. Есть только один день и одна ночь, и они повторяются бесконечно…
Я помню, чтобы постоянно удерживать прошлое в прошлом…
44
Мне семь лет… Мы приехали в другой город погостить. Там какой-то праздник. Везде толпы людей, мне не выбраться. Все толкаются, наступают на ноги, выплевывают шелуху от семечек прямо мне на голову. Я хватаюсь за штанину отца, потом выпускаю ее из рук. Мы подходим к какому-то тиру, но и там я ничего не могу рассмотреть… Не помню, сколько я так простоял, но когда обернулся, увидел, что отца с матерью нет. Они исчезли. И что теперь?.. Как это?.. Отец повел Гензель и Гретель на прогулку в незнакомый лес… Когда они обернулись, отца не было…
Я рванулся вперед, бегу, кричу… Улицы полны людей, время послеобеденное. Люди возвращаются с работы. Останавливаю женщину возраста моей матери, плачу, говорю, что потерялся. Не помню ни улицы, ни номера дома, где мы остановились. Помню только, что дверь зеленого цвета… «Да, но они все зеленого цвета, — отвечает мне женщина. — Извини, малыш, я тороплюсь. Иду с работы. Спроси у кого-нибудь еще». Спрашиваю другую женщину, мужчин вообще не трогаю. Такая же картина: тороплюсь, малыш, спроси у милиционера, он должен быть где-то здесь, не бойся… Уже темнеет, по улице со свистом проносятся машины, никто не обращает на меня внимания, из носа потекла кровь… И вдруг какая-то рука хватает меня, потом громом отдаются в голове два подзатыльника… Я спасен.
45
Мне шесть лет, моему брату — четыре. Мы стоим на сельской площади перед памятником какому-то партизану. На нас короткие штанишки, на ногах сандалии. Но волосы длинные — как у битлов (я — Джон, брат — Пол). Снимок сделан отцом за несколько минут до того, как нас поведут (в сопровождении сельского милиционера) к деду Петре — тот по приказу сельского старосты должен нас постричь наголо. То же самое ждет и отца, который мало того что отрастил волосы, так еще и отпустил усы. В селе нет парикмахерской. Дед Петре по очереди усаживает нас на пень. Рядом пасется осел. Я уныло смотрю, как с моей головы падают русые пряди, и молчу. Не смею даже разреветься, потому что боюсь милиционера. Возможно, раз запрещено ходить с длинными волосами, то и реветь нельзя…
Наконец все трое — мы с братом и отец, обритые наголо, словно заключенные, опрысканные дедом Петре дешевым одеколоном, спешим домой… «Только посмейте зареветь», — сквозь зубы предупреждает нас отец, почувствовав, что мы еле сдерживаем слезы.
Строуберри филдс форева.
46
Я старею. Все больше отдаляюсь от Рима детства в далекие пустые провинции старости, откуда нет возврата. И Рим уже не отвечает на мои письма.
Прошлое существует где-то в виде улицы или дома, который ты ненадолго покинул, всего на пять минут, и очутился в незнакомом городе. Говорят, что прошлое — чужая страна. Глупости. Прошлое — моя родина. Будущее — чужая страна, полная чужих лиц. Я не хочу туда…
Позвольте мне вернуться домой. Мать просила не опаздывать…
47
Мне года три. Я стою босиком на теплой земле в саду, где цветут розы. Держу мать за руку и рассматриваю цветок в упор, так как он с меня ростом. Это единственное, что я помню. Первое и последнее.
48
Синдром непринадлежности
Ни одно время не принадлежит тебе, ни одно место не является твоим. То, что ты ищешь, не ищет тебя, то, что снится тебе, не зовет тебя в свой сон. Ты знаешь, что потерял что-то свое в другом месте и в другое время, и потому ищешь его в чужих комнатах и снах. Но если окажешься в нужном месте, время будет другим. А если будешь в правильном времени, место будет иным.