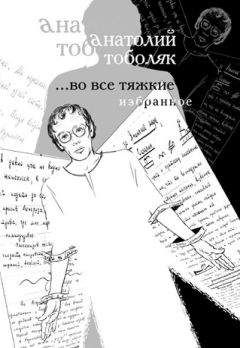— И эти депутаты из парламента — тоже корыстные падлы!
— Согласен. Но…
— Понимаю, что хочешь сказать. Первый этап. Начало. Дальше будет легче. Но у меня маленькая девчонка. Я ее должен кормить сегодня, а не в светлом будущем. А для этого надо ссучиться, пуститься во все тяжкие. Не так?
— Да, выкручиваться надо, — опять вздохнул хозяин кабинета.
— У-у! — застонал я. — Растравил ты меня. Давай скинемся, возьмем еще. Хочу нажраться.
— Давай. Но давай без истерик, ладно? — помаргивая, отвечал редактор Перевалов.
Я вышел из издательства, направляясь в ближайший «комок».
* * *
И поспешно вошел в нашу спальню, где в кроватке плакала моя Маша.
— Ну, что ты? — склонился я над ней. — Что случилось, малышка?
И уже поднимал на руки, целуя в горячий лобик, и уже привычно, склонив к ней лицо и нежно что-то приговаривая, расхаживал туда-сюда по комнате между окном и дверью, мимо тахты и бельевого шкафа, по проверенному пути… Она затихла, опять доверчиво уснула. Я осторожно положил ее в кроватку и вернулся на кухню.
Ольга сидела за кухонным столом и тасовала, раскладывая по кучам купюры разного достоинства, словно раскладывала пасьянс. Губы ее шевелились.
— Это сюда… это сюда… — как в бреду, приговаривала она. Вскинула на меня глаза. — Ну что?
— Температурит еще. Я звонил из автомата в поликлинику. Врач к двенадцати придет.
— Ага. Хорошо. Сколько мы должны Савостиным?
— Пять.
— А Ершовым?
— Три вроде бы.
— А в редакции ты сколько должен?
— Об этом пока забудь. Сам отдам с получки. — Я повалился на табурет рядом с ней. — Ты сразу отложи на дорогу. Тридцать тысяч в один конец.
— Господи, такие деньги за билет… ужас какой-то! Чтоб он пропал, твой Ельцин! — вдруг вспылила Ольга.
— Не пори чушь. Не скули. Не будь бабкой-пенсионершей.
— Но это же грабеж!
— Подумай лучше, что себе купить из одежды. Теща меня не поймет, если приедешь полной оборванкой. Проклянет.
— Господи, а то она не знает, как мы живем! Мне ничего не нужно. А вот ты жутко обносился. Туфли совсем развалились.
— Не вздумай купить, — жестко сказал я. — Запрещаю. Развалятся окончательно, сплету лапти. Или в домашних шлепанцах буду ходить.
— Ох, Андрей, еще за квартиру надо заплатить, за свет. За три месяца.
— Заплачу. С зарплаты.
— Послушай… — Она жалобно сморщилась. — А может, нам все-таки не надо лететь?
Я сквозь зубы выругался.
— Какого черта! Опять! Мы же решили.
— А как ты тут будешь один? Я же там изведусь.
— Не изведешься. А я перебьюсь. Мне одному много не надо. Хлеб, заварка, курево. Все!
— Я ведь только ради Машеньки, ты понимаешь? Мама все-таки врач. И вообще…
— Что вообще?
— Я подумала… Ты только не сердись, ладно? Может быть, уговорить маму, чтобы она хотя бы год понянчилась с Машей? А я бы вернулась и… — Она не договорила под моим взглядом. Глаза ее вдруг оплыли слезами. Я поспешно притянул ее к себе и поцеловал в щеку.
— Помалкивала бы! Какая из тебя кукушка! Ты же без Маши дня не проживешь.
— Да… правда.
— Запрещаю об этом думать.
— Хорошо… больше не буду.
— Гони деньги на билет. Паспорт гони, — потребовал я.
— Как? — испугалась Ольга. — Ты сегодня хочешь купить?
— Да. На ближайшее число. А то не заметим, как промотаем.
Она глубоко вздохнула, подчиняясь, и опять взялась за свой денежный пасьянс, а я, пристроившись на углу стола, пил горячий чай с пряниками — и то ли он слишком горячий, то ли слишком крепкий… какие-то спазмы перехватывали горло. Не мог я смотреть на свою жену, на эту нищенку, внезапно, на краткий миг разбогатевшую. Ничтожеством себя ощущал. «Кумиров, — думал, — ничтожество, неужели не можешь обеспечить своим близким счастливую, спокойную, неунизительную жизнь?» И с ненавистью смотрел на хрустящие бумажки в руках Ольги, эти зримые символы благополучия и всевластия.
— Вот, — вздохнула она. — Это на билет.
— Давай еще на продукты, — очнулся я, словно из глубины всплыл на поверхность.
— Сколько?
— Почем я знаю, сколько! Ну, пару тыщ. Ну, три. Ну, четыре.
— Хлеба не забудь купить.
— А еще что?
— Ну, может быть, картошки. У нас кончилась. Масла нет. Луку. Молока.
— Яйца? — подсказал я. — Курицу-курву? Колбасу?
— Да, пожалуй. Позволим себе, да?
— И бутылку пива для главы семейства, — сказал я вставая.
— Конечно! Хоть две.
Я вышел из кухни чуть не со слезами на глазах — до того растравили, разволновали эти нищенские подсчеты…
* * *
В «комке» меня обслужили быстро, вежливо, на высоком уровне. Затем пошла черная гульба, давно позабытая, с приглашением приятелей из телерадиокомитета и забредших в издательство авторов.
* * *
— Кумиров, признайся, ты вчера крепко поддал? — проницательно спросила бесподобная Радунская на следующий день. Была она в какой-то новой кофточке, нарядная, как елочная игрушка.
— С чего взяла? — огрызнулся я.
— Думаешь, не видно? Не ходи по кабинетам, не дыши. А то нарвешься на шефа.
Какая заботливая, надо же! Может, в самом деле пригласить ее в гости, чего она упорно добивается? Но меня лишь передернуло от этой мысли. Никакого плотского вожделения… странно, очень странно. Импотенция, подумал я с кривой усмешкой, на почве авитаминоза и неврастении. Впору устраиваться на должность евнуха в какой-нибудь публичный дом.
И скрипнул зубами от какой-то тяжелой ненависти к себе. И опять взялся за правку статьи вице-губернатора господина Мизгирева. Мысли мои, наверно, зримо ползали по моему искаженному лицу, ибо приметливая Радунская сочувственно вздохнула:
— Тяжело тебе, бедняжке. Чаю, что ли, заварить?
— Завари. И затопи баньку по-белому.
«И займи тысяч семьдесят-сто, — додумал я. — Или раздобудь мне цикуты. Или цианистого калия, великолепного успокаивающего средства». А также:
«…желательно включить в состав конкурсных объектов семь открытых газонефтяных месторождений: Одоптинское, Пильтун-Астохское, Чайвинское, Аркутун-Дагинское, Луньское, Киринское, Венинское…»
И Кумировское, смутно подумал я. Кумировское тоже. Оно богато запасами адреналина, желчи, тоски… а если бурить поглубже, стародавние пласты, то, может быть, обнаружатся и природные драгметаллы, вроде золотишка доброты или алмазиков любви к ближнему… В былые годы, школьные и студенческие, тот Кумир был весьма компанейским малым, заводилой своего кружка, где смех и веселье не смолкали, хотя и был тот кружок объединен страшным по тем временам словом «нонконформизм», политизирован в высшей степени… но как же легко и безбоязненно летели на его свет девочки-комарики, девочки-пестрокрылые бабочки! А Кумир и его приятели радостно, конечно, раскрывали свои объятия, привечали всех. Золотые, безмятежные деньки в глухое, тупиковое время! Ау! где оно?
Сказал бы кто-нибудь тогда, что щедрый сеятель Кумиров, вольный стрелок, бесшабашный прожигатель своей единственной жизни, уже вскоре, не достигнув и тридцатилетия, сменит начисто свою сущность и оболочку, да разве бы я поверил? Никогда. Никогда не думал, что смогу стать таким семьянином, таким единолюбцем, таким беспокойным мужем и отцом. У нынешнего Кумирова даже сны стали исконно-посконно домашними, не воспаряющими, как прежде, в заземельные выси и веси. А кто виноват? Ты, чудо-жена. Ты, милая малышка.
— Вот, пей! — подносит мне, как официантка, чашку на блюдце нарядная Радунская. — Горячий, сладкий.
— Спасибо, Вика. Добрая ты все-таки.
— Иди ты!.. — отмахивается она, не веря ни в мою искренность, ни в мою благодарность.
Ладно, Бог ей судья. И мне тоже. И Бог судья вице-губернатору Мизгиреву, который, судя по его статье, предпочитает японскую компанию «Садеко» американскому консорциуму МММ. За его статьей, за этими машинописными страницами так и просвечивают большие деньги, огромные кипы зеленых купюр, миллионно размноженные Авраамы Линкольны… А мне бы хватило… сколько же? Да всего каких-нибудь — ха-ха! — полторы сотни этих самых долларов!.. Ох как поразился бы генеральный директор Яхнин, когда, войдя к нему в кабинет, именно в кабинет, я выложил бы перед ним эти драгоценные бумажки, зеленые, как бы пропитанные весенним, буйным хлорофиллом!
«Вот долг, Молва. С процентами. И не попадайся мне больше на дороге».
«А что так, Кумиров? — удивился бы он. — Чем не угодил?» «Кровопийца ты, Молва. Вообще, гад порядочный». «А-а, вот как ты заговорил! Эй, охраннички мои! Выкиньте эту падлу вон!»
Усмехаясь своим мыслям, я спрашиваю В. Радунскую:
— А закурить не найдешь для полного счастья?
Созрел то есть для первой похмельной сигареты. А сам купить хотя бы самых дешевых, хотя бы семидесятирублевых, смертоубийственный «Рейс», не в состоянии после вчерашнего кутежа… Я вдруг захохотал.