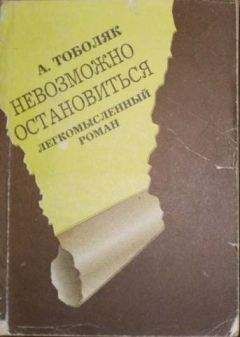Опаздываем, опаздываем. Встреча намечена на шесть часов. Нас ждут рыбообработчицы, и мы бежим, спешим между бараков под проливным дождем. Скатываемся по деревянной лестнице к морю, бурливому и пенному. У причалов раскачиваются ржавые маломерные суда. На берегу навалы морской капусты. Острый запах йода. Это, дети, остров Кунашир. А вон там, вдали, за неширокой водной преградой, за плотной завесой дождя вздымаются исконно японские сопки. Мы на них не претендуем, правда, дети? мы не жадные.
— Поднажмем! — командует наш руководитель Илюша Скворцов, и мы матерясь прибавляем шагу, оскальзываясь в дорожной грязи.
Как же мы здесь оказались, на острове то есть Кунашир? Очень просто. Это я захотел нарушить последовательность событий. Автор я или кто? Творец я или кто? Имею право, стало быть, перемещаться во времени и пространстве по желанию своему. Мое дело, не придирайтесь! Захочу, и поставлю вот здесь последнюю точку. Напишу «КОНЕЦ». А вы кусайте ногти, ломайте голову, мучайтесь вопросом, что я недосказал. Ладно, пощажу.
Спеша, я заскакиваю в личный туалет Ольги Ц. Вас сюда с собой не приглашаю. Постойте за дверью. А вот писатель Эдичка Лимонов непременно пригласил бы. Этот Нарцисс непременно живописал бы, как его желтая струя по изумительной глиссаде падает с шумом в унитаз, пенясь. Причем, не простая это струя — патриотическая! Ибо Эдичка Лимонов не элементарно, прошу прощенья, ссыт, а совершает идеологический акт — обливает мочой Америку и Европу вместе взятые. Ему, дети, там очень плохо живется, коммунистическому педерасту, надо его понять и пожалеть. Капиталистические педерасты его уже не устраивают, беднягу. Вот он и злобствует, полагая при этом, что не злобствует, а страдает, страшно страдает за человеческое несовершенство. Но почему-то — я заметил — муки его проходят не через душу, а через, прошу опять прощенья, жопу. Ну, ладно. Прости, Эдичка. Живи, как хочешь, то есть думай, как хочешь. А я спешу и отливаю без всякого подтекста. На миг, правда, ловлю себя на каком-то неудобстве в мочеиспускательном канале. А, мнительность! Мнительность. Что-то засорилось, подумаешь! Маленькая неисправность, ерунда! И выскакиваю из личного туалета Ольги Ц.
Без двух минут шесть. Один за другим мы проходим через турникет перед окошечком вахтерши рыбозавода. «Куда?!» — кричит она, и Илюша ей на ходу объясняет, что мы писатели, писатели мы, а не какие-то ворюги с улицы. Нам консервов не надо. Нас ждет не дождется рабочая аудитория. Убеждает, и мы втроем проникаем в разделочный цех, пустой и гулкий, спешим мимо неподвижного конвейера, где на ленте лежат тушки сайры, поднимаемся по железной винтовой лесенке. Бывали здесь когда-то, года два, кажется, назад. Вот и красный уголок, откуда долетают женские голоса и женский смех. Женские, какие же еще! Здесь, я уже говорил, обитают исключительно женщины, в этом общежитии медицинского училища, ну, девушки. А коли Лизочка моя не ответила по рабочему телефону, то должна она быть непременно в своей комнате 309.
Я стучу в дверь и тут же распахиваю ее.
А мы входим в Красный уголок, вызывая сильное оживление молодых и старых рыбообработчиц. «Девки! — слышим мы. — Мужики пришли! Разбирай кто кого!»
А Лизочка молча на меня смотрит. Она только что приняла душ. На ней короткий купальный халатик. Волосы мокрые. Голые ножки… это самое… голые. Но странно, что на светлом, омытом ее лице нет и намека на улыбку. Смотрит на меня хмуро и неприязненно, как на чужого.
— Ты чего? — удивляюсь я.
— Ничего.
— А чего ж ты не радуешься?
— Чему?
— Ну, мине. Это же я.
— Вижу.
— Я звонил, звонил. Звонил, звонил. Чи-истенькая! — хвалю я ее, приближаясь и протягивая руки с известным намерением. Но она отступает на два шага. Что такое?
— Что такое? — останавливаюсь я.
— Слушай, я улетаю.
— Чего-о?
— Улетаю. В Москву.
— Куда-а?
— В Москву, в Москву! — нетерпеливо повторяет она.
Я, естественно, тут же спрашиваю, не сдурела ли она, не белены ли ненароком объелась.
— У меня бабушка умерла. Я телеграмму получила от мамы. Уже билет купила, — сумрачно и отрывисто объясняет Лиза.
Разумеется, я тут же опускаюсь на ее сиротскую кровать, ошарашенный.
Лезу в карман за сигаретами.
— И когда летишь? — помедлив, спрашиваю.
— В три ночи.
— А надо лететь?
— А ты как думаешь? Родная бабушка. Знаешь, какая хорошая, — вдруг жалобно кривится Лизонька.
Я тупо на нее смотрю. Есть такое неписаное правило: когда общаешься с аудиторией, надо выбрать из многих лиц одно — приветливое, привлекательное, внимательное — и именно на нем сосредоточиться. Такое лицо тут есть. Это молодая девушка в белом, как у всех, туго повязанном платке, в сиреневом, как у всех, халате и желтом, как у всех, прорезиненном переднике, — во втором ряду третья слева.
— Дорогие женщины! — Так я оригинально начинаю, стоя за столом на маленьком возвышении. Дело в том, что я ведущий. Илюша Скворцов руководитель нашей бригады, а направляю такие вот встречи я. Потому что я прозаик и умею говорить прозой. — Дорогие, значит, женщины! — продолжаю я.
Их называют верботой, этих молодых и старых представительниц самых разных российских губерний. Сильные ветры, бурные течения, помотав по стране, занесли их в наши туманные края. Деньги — их компас руководящий. Гипотетические тысячи плывут перед ними на конвейере в облике сайры и горбуши. Они слышат плачущие голоса далеких своих детей. Кто мы в их глазах? Махаоны легкокрылые, счастливцы праздные, везунчики, родившиеся в рубашках. Мы достойны ненависти и, право, стоило бы вспороть нам животы острыми разделочными ножами, отсечь головы и, порубив на части, закатать в консервные банки… чтобы не выдрыгивались перед ними со своими слабенькими душевными откровениями. На кой им наши стихи — на кой? — если руки их в рыбьей крови и слизи, ноги изуродованы варикозом, а ночные сны сопровождает звон и грём пустых консервных банок? Но нет же, слушают в тишине с необыкновенным любопытством и серьезностью, как инопланетян каких-то, вот что странно! И я говорю глухим голосом:
— Да-а, жаль бабулю.
Лиза всхлипывает:
— Еще как!
— А ты вернешься?
— Конечно.
— Когда?
— Через неделю, наверно.
— Ну, иди ко мне… бедная ты моя, — протягиваю я руки и, обхватив ее за пояс, притягиваю к себе.
Под халатиком у нее ничего нет. Бабушка умерла. Лиза летит на похороны. Под халатиком у нее ничего нет. Мои руки, проникнув под халатик, скользят по ее чистому нежному телу… от лопаток вдоль спины.
— Не надо… пожалуйста! — сопротивляется Лиза, упираясь ладонями мне в плечи.
Прости, бабушка, но так устроено — не мной! — что живая эта жизнь сильней, видишь ли, абсолютной смерти. Тут ничего не поделаешь. И утыкаясь лицом в горячий впалый Лизин живот, я целую ее пупок, души средоточье, и с померкнувшими глазами, с колотящимся сердцем, кощунствуя, наверно, прильну я губами сейчас к сладостному местечку, которое люблю за первичную, непознаваемую тайну, бабушка.
— Перестань! Ну, не надо!.. Бабуля моя! Юрка, гад! — приговаривает сопротивляясь Лиза, но сама по себе, независимо от себя, обхватывает мою неразумную голову, и вся дрожит под моими подзабытыми губами и руками. А я продолжаю:
— Сейчас, дорогие женщины, хочу предоставить слово известному дальневосточному поэту Илье Скворцову, автору многих сборников, которые выходили в центральных и региональных издательствах. Поднимись, Илья, покажись, — улыбаюсь я. Илюша встает под короткий оживленный аплодисмент. Его лицо сразу заостряется, и ложится на него тень нездешнего отстраненного вдохновения. Смешки стихают. Шутки в сторону. Илюша кудесничает. С легким беспокойством я смотрю, как он осторожно извлекает пинцетом шприц из металлического корытца, а с помощью другого пинцета вставляет в него длинную и тонкую иглу.
Это таинство происходит ранним утром у меня на кухне еще до отъезда на Кунашир.
— Ты, Илюша, особенно не свирепствуй, ладно? — прошу я с некоторой дрожью в голосе.
— Не бойся. Опыт есть, — сухо отвечает мой личный врач. — Спустил штаны?
— Спустил.
— Хорошо. Сейчас.
Необычайно сосредоточенно, как в момент чтения стихов, Илюша отламывает головки ампул, протыкает резиновую пробку бутылочки и попеременно набирает лекарства в шприц.
— Ты все правильно делаешь? — тревожусь я.
— Все правильно. Жопой к свету, Юраша! — командует он.
Я поворачиваюсь, как просит, хотя чего ее разглядывать в солнечном свете, мою дуру?
— Не дрожи!
— Я не дрожу.
— Дрожишь. Не дрожи! Расслабься. В левую или правую?
— Давай в левую. Ближе к сердцу.
Бац! Сильный шлепок по ягодице… можно сказать, пощечина. И легкий, неболезненный укол — это Илюша ловко вводит мне иглу в мягкое место.