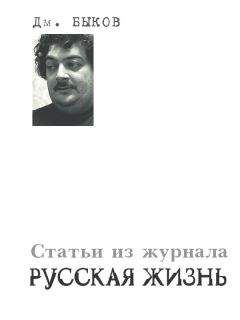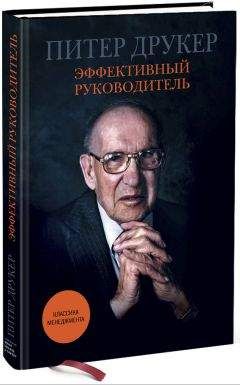С Пелевиным сложней — и, может быть, именно надежда на то, что он выдаст наконец эту свою тайную опору, подогревает интерес к каждой его следующей книге, хотя заранее ясно, что — несмотря на любые периоды молчания — это всегда будет «еще одна книга» (и слава Богу! Покупая хлеб, не ждешь, чтобы внутри оказались устрицы. Нужен ведь именно хлеб). Гоголь спасался христианством (и не спасся), Зощенко — психоанализом (и тоже не помогло), а Пелевин старательно прячет свой идеал, проговариваясь о нем то в нескольких строчках «Generation» (где ивы плачут), то в «Госте на празднике Бон». Некоторые думают, что его опора и стимул — буддизм, другие (как Ирина Роднянская) — что христианство, а есть и такие, кто валит на наркотики. Но, скорее всего, главным мотором и спасением для него является радость от называния вещей своими именами и понимания того, как все устроено… хотя и эта радость, в общем, скоротечна: надо же еще чем-то жить. И если я догадываюсь, в чем черпает силы Петрушевская, — то предположить, откуда их берет и чем утешается Пелевин, мне крайне сложно. Может быть, срабатывает тщеславие — один из гоголевских моторов, кстати, — но думаю, что он слишком умен для этого. Сам о себе он сказал гениально: «Богомол-агностик».
Несомненно одно: именно два этих писателя определяли и спасали русскую литературу в очередном ее кризисе. Суть их творческого метода лучше всего определил тот же Пелевин — в «Вестях из Непала»: «Наиболее распространенным в Катманду культом является секта „Стремящихся Убедиться“. Цель их духовной практики — путем усиленных размышлений и подвижничества осознать человеческую жизнь такой, какова она на самом деле. Некоторым из подвижников это удается, такие называются „убедившимися“. Их легко узнать по постоянно издаваемому ими дикому крику. „Убедившегося“ адепта немедленно доставляют на специальном автомобиле в особый монастырь-изолятор, называющийся „Гнездо Убедившихся“. Там они и проводят остаток дней, прекращая кричать только на время приема пищи».
Как говаривал Ленин: «Не знаю, как насчет Непала, товарищи, а насчет России это совершенно верно».
№ 13(30), 3 июля 2008 года
Гордон строит мельницы
Самый распространенный вопрос: зачем. Совершенно очевидно, что Александр Гордон против симулякров выиграть не может. Какая тут, в самом деле, дискуссия? Гордон закрикивается и захлопывается без особенных усилий. Он терпит наглядное, показательное, не подлежащее обжалованию поражение. Даже мне, не питающему к нему особо пылких чувств, — так, ровное благожелательное уважение, — было горько на него смотреть. И во время эфира с этим, забыл, как бишь его, неважно, и на той программе, на которой был сам, — про Аркаим, древнюю праматерь ариев, ариеву конюшню, столицу белых воинов и волхвов. Тоже было мозгораздирающее зрелище.
Сидят с одной стороны тихие профессора, трясут какими-то хронологическими таблицами, а с другой прыгает астролог Глоба, в глазах злоба. Это же математический закон, объективная реальность: десять профессоров не перекричат одного астролога, особенно если на его стороне красный мистик Проханов. Двадцать белых агностиков не перекричат красного мистика. Посреди этого ходил печальный Гордон, одетый с той тщательной, дорогой потрепанностью, которая с самого начала изобличает глубокий замысел. Это уже на грани обтерханности. И тогда начинаешь спрашивать себя, зачем ему это нужно, — и глупее этого вопроса нет ничего. Он первым додумался возвести лузерство в куб, в принцип, в моду — и это единственный ответ на все, что нам предлагается сегодня.
Я хотел сначала написать «единственный наш ответ им», но задумался: кто мы и кто они? Назвать Гордона неудачником — даже на фоне этого, как его, — не сможет и самый злопышущий критикан. Этот, как его, был еще никто и звать никак, а Гордон уже был культовой фигурой, вел «Хмурое утро», советовал самоубийцам поскорей кончать с собой, а то кофе стынет. Так что говорить о разделении российской аудитории на удачливую гопоту и жалобную интеллигенцию как-то не совсем комильфо: думаю, доходы Гордона и того же Глобы как-нибудь сопоставимы. Вероятно, разделение проходит по другой демаркационной линии: одни, побеждая, испытывают смутную неловкость, сознание незаслуженности победы, сочувствие к побежденному. Другие дотаптывают побежденного до состояния праха. У них даже есть выражение: «порвать, как обезьяна газету». Обезьяне мало не уметь читать — ей надо этому радоваться. На дне души, в подвалах памяти у нее хранится убеждение в том, что газета — ценный предмет, мало не уметь ею пользоваться — надо ею подтираться. «А ну-ко, свинья, погложи-ка Правду!» Если свинья не будет чувствовать, что перед нею Правда, — ей будет невкусно.
Нам сейчас вовсю навязывают мифологию победы. Из всех колонок звучит трубное: «Хватит быть лузерами!» (Особенно смешно это звучит в исполнении персонажей, которые никто и звать никак). Мы побеждаем решительно везде. Книга об Аршавине называется «История великой победы», как будто Аршавин отдал такой пас Павлюченко, что тот пробил непосредственно в рейхстаг. Мы победили канадцев, шведов, голландцев, американцев, чья валюта падает, европейцев, чьи машины горят вследствие национальных проблем, а наши просто так; мы победили голод, нищету, депрессию, скоро победим инфляцию и Грузию (я думаю, что в Грузии-то инфляция и сидит). Мы пользуемся конъюнктурой самодовольно, упоенно, нагло. Нам прет. Это написано на нашем жизнерадостном лице. Мы высокомерно поучаем всех, кому не прет. Мы — опять эти «мы», но что поделаешь, стране навязывают общность, и кто не орет, не пьет пива и не прыгает топлесс в честь нашей великой победы, тот не любит Отчизны своей; так вот, мы ведем себя, как салабоны, дорвавшиеся до дедовства.
Как знают все отслужившие, самые грозные деды получаются из наиболее зачморенных салаг. Они дорвались и отрываются. Простите меня за неполиткорректность, но, скажем, в особо пылких патриотических декларациях иных израильских правых — прежде всего из бывших наших — мне слышится порой та же оголтелая ярость, накопленная во время погромов. Между тем если бы победители иногда не жалели побежденных, мир бы прекратился. Это единственное доказательство права на победу, единственный залог того, что победитель ее заслужил. Иначе он так и остается не победителем, а лузером, которому поперло.
И вот среди этих лузеров, которым прет, Гордон с поразительным артистическим чутьем заряжает программу «Гордон-Кихот», главное содержание которой сводится к тому, как его тонким слоем размазывают по экрану. Размазывают нагло, тупо, триумфально. Что? Ты рот еще открываешь? Н-на.
Самое удивительное — как они ведутся. Они не понимают, зачем их пригласили, и с удовольствием попадают во все ловушки. В ток-шоу позвали мельниц, и они мелят, мелят, машут конечностями, держи — улетят. Они охотно перемелят и Гордона, и зал, и зрителя, и телеаналитика Славу Тарощину, искренне недоумевающую, зачем вступать с ними в дискуссию. Полноте, я сам человек брезгливый. Но если не вступать с ними в дискуссию, мы можем проснуться в дивном новом мире, в котором повода для дискуссий уже не будет — одно гы-гы, разноображиваемое радостным бугага.
Когда-то мы с Никитой Елисеевым задумывали журнал «Лох». Или «Лузер», если кому-то это кажется более брендовым. Это был бы наш ответ на только зарождающийся гламур, на культ успеха, на беспрерывные истории преуспевания (довольно однообразные, как все счастливые семьи: украл — выпил — в Куршевель, украл — выпил — в губернаторы)… Там было бы грандиозное разнообразие сюжетов: автобиографические заметки «Как меня развели». Любовная история «Как мне не дали» или «Как я не смог». Вместо очерков о великих состояниях прошлого, нажитых самым бесчестным путем, в исполнении безработных историков, на чьих губах так и кипит голодная слюна, — очерки великих поражений, разорений, неудавшихся экспериментов: в истории человечества их побольше, чем блистательных триумфов. И все это, доложу вам, истории мужества, подвига, иногда — гениального прозрения. Мне неинтересно читать про то, как Леонардо ди Каприо после премьеры «Титаника» получил триста тысяч признаний в любви. Мне интересно, как Бизе умер через год, день в день, после оглушительного провала оперы «Кармен», названной в утренних газетах образцом дурного вкуса.
Клянусь, этот журнал имел бы успех. Особенно если бы сбылась наша мечта издавать его на самой плохой бумаге, с черно-белыми иллюстрациями. Убеждение, что людям нравятся истории успеха, насаждается весьма недалекими манипуляторами, основывающими свои выводы на нехитрой закономерности: те, кто сумел нечто урвать и переварить, чувствуют смутные угрызения совести и страх возмездия. Им приятно почитать про других таких же и тем несколько остудить жар невротизации: «Не может же быть, чтобы мне за это ничего не было!» Так вот, может, успокойся, таких в истории полно. Но людей, нуждающихся в подобных утешениях, — минимум. А остальным желательно, чтобы текст корреспондировал с их внутренней травмой. Вот почему роман «Анна Каренина» остается мировым бестселлером, а роман того же автора «Семейное счастие» известен немногим специалистам.