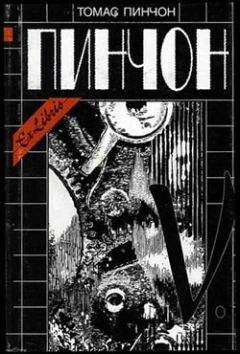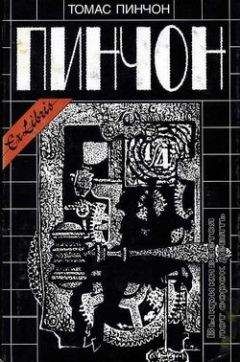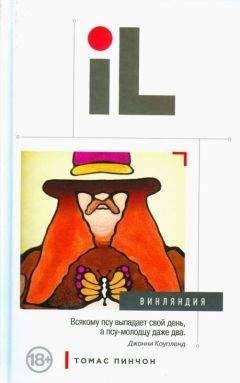Такая вот комната. Можно еще добавить, что матрас выклянчили в казарме холостых офицеров флота в Валлетте вскоре после войны, печка и провизия получены от ОАБО [213], а стол найден в разрушенном доме, от которого сейчас остались только присыпанные землей камни. Впрочем, какое это имеет отношение к комнате? Из фактов складывается история, а история есть только у людей. Факты вызывают эмоциональные отклики, которых в принципе не может быть у неодушевленной комнаты.
Комната находится в доме, в котором до войны было девять таких комнат. Теперь осталось только три. Сам дом стоит на насыпи возле судоремонтных доков. Под этой комнатой находятся еще две, а остальные две трети дома разрушены во время бомбежки зимой 1942 – 1943 годов.
Фаусто можно определить всего лишь тремя понятиями. Как родственника – твоего отца. Как имя, данное при рождении. А самое главное – как жильца. Как жильца этой комнаты, где он поселился вскоре после того, как ты уехала.
Ты спросишь: почему? Почему я использую описание комнаты в качестве предисловия к апологии? Потому что комната – хотя в ней холодно по ночам даже с занавешенным окном – это оранжерея. Потому что комната – это прошлое, хотя у нее и нет собственной истории. Потому что, как наличие постели или другой горизонтальной плоскости обеспечивает то, что мы называем любовью; как необходимо возвышение, дабы слово
Божье достигло паствы и зародилась религия, так для того, чтобы мы могли обратиться к прошлому, нужна комната, отделенная от настоящего.
В университете, еще до войны и до того, как я женился на твоей несчастной матери, мне, как и многим юношам, казалось, что ветер Величия трепещет у меня за плечами, как невидимая накидка. Маратт, Днубиетна и я должны были составить костяк великой Школы англо-мальтийской поэзии – поколение 37-го года. Эта студенческая уверенность в успехе порождает различные страхи, и прежде всего боязнь автобиографии или apologia pro vita sua [214], которую поэту предстоит однажды написать. Как, рассуждает поэт, как можно писать о своей жизни, если точно не знаешь, когда пробьет твой смертный час? Душераздирающий вопрос. Кто знает, какие подвиги Геракла в области поэзии он еще сможет совершить в годы между преждевременной апологией и смертью? Возможно, его достижения будут столь велики, что самооправдание окажется ненужным. А если, с другой стороны, ничего не удастся свершить за двадцать – тридцать лет прозябания, то каким отвратительным должен казаться такой исход молодым!
Время, разумеется, изобличило всю нелогичность такой постановки вопроса. Мы можем оправдать любую апологию, определив жизнь как последовательное отторжение различных ипостасей. Любая апология – не более чем романтическое повествование, наполовину выдумка, в которой сменяющие друг друга личины, последовательно принимаемые и отвергаемые писателем, описываются как разные персонажи. Сам процесс писания становится еще одним отторжением, еще одним «персонажем» прошлого. Тем самым мы действительно продаем свои души, расплачиваемся ими с историей частичными выплатами. Не такая уж большая цена за ясность видения, позволяющего разглядеть фикцию непрерывности, фикцию причинно-следственных связей, фикцию очеловеченной истории, творимой «разумом».
К 1938 году на сцене появляется Фаусто Мейстраль Первый. Юный властитель, нечто среднее между Кесарем и Богом. Маратт решил, что будет заниматься политикой, Днубиетна учился на инженера; меня прочили в священники. Таким образом, мы втроем воплощали основные устремления человечества, которые должны были стать предметом исследования для поколения 37-го года.
Мейстраль Второй возникает одновременно с твоим, детка, появлением на свет и с началом войны. Ты была нежданным ребенком и потому отвергнутым. Впрочем, если бы Фаусто I серьезно относился к своему призванию, то ни Елена Шемши, твоя мать, ни ты вообще никогда не появились бы в его жизни. Планы нашего Движения претерпели изменения. Мы продолжали писать, но теперь у нас были также и другие дела. На смену поэтическому «предназначению» пришло открытие более глубокого и древнего аристократизма. Мы стали строителями.
Фаусто Мейстраль III родился в День Тринадцати Налетов. Его рождению способствовали смерть Елены и зловещая встреча с тем, кого мы знаем лишь по прозвищу «Дурной Священник». Сейчас я пытаюсь запечатлеть эту встречу на английском языке. В дневниковых записях того времени вместо описания этой «родовой травмы» сплошная невнятица. Фаусто III в большей степени, чем всех остальных персонажей, можно охарактеризовать понятием «нечеловечность». Именно нечеловечность, а не «бесчеловечность», которая означает «зверство», – а звери как-никак живые существа. Нечеловечность Фаусто в основном позаимствовал от обломков, руин, разбитых стен, разрушенных церквей и гостиниц города.
Его преемник Фаусто IV, унаследовавший физически и духовно разрушенный мир, не был порожден каким-то одним событием. Просто Фаусто III достиг определенного уровня в своем медленном возвращении к сознанию и к человечности. Это развитие продолжается и сейчас. Каким-то образом возникали стихи (по крайней мере, одним циклом сонетов нынешний Фаусто доволен и по сей день), монографии о религии, языке, истории, критические эссе (о Хопкинсе, Т. С. Элиоте, о романе де Кирико «Гебдомерос» [215]). Фаусто IV остался «литератором» и единственным из поколения 37 года продолжающим писать, поскольку Днубиетна нынче строит дороги в Америке, а Маратт где-то к югу от Рувензори [216] организует восстания среди наших братьев по языку – народов банту.
Вот мы и подошли к периоду междуцарствия. Никакого движения; единственный трон – деревянный стул в северо-западном углу этой комнаты. Изолированность: разве тот, кто занят прошлым, слышит гудок судоремонтного завода, грохот клепальных молотов, шум машин на улице?
Плутовка память – она наводит глянец и все перекраивает по-своему. Слово, как это ни печально, лишено смысла, поскольку основывается на ложной посылке о том, что личность едина, а душа неизменна. Назвать любое свое воспоминание истиной так же невозможно, как нельзя сказать: «Маратт – университетский циник и сквернослов» или: «Днубиетна – либерал и сумасшедший».
Обрати внимание на это тире: мы, сами того не осознавая, вступили в прошлое. Сейчас, дорогая Паола, тебе придется выдержать поток студенческой сентиментальщины. Я имею в виду дневники Фаусто Первого и Второго. Как иначе нам воссоздать его, если на то пошло? Вот, к примеру, такой отрывок:
Как удивительна эта ярмарка св. Джайлза [217], что зовется историей! Ее движение ритмично и волнообразно – караван уродцев, чей путь лежит через тысячи холмов. Загипнотизированная извивающаяся змея, несущая на спине, словно микроскопических блох, всех этих горбунов, карликов, вундеркиндов, кентавров, телепатов. Двуглавые, трехглазые, безнадежно влюбленные сатиры, мохнатые, как волки-оборотни, оборотни с глазами юных девушек, а может, даже старик с аквариумом вместо живота, в котором среди кораллов кишок плавает золотая рыбка.
Запись датирована, как и следовало ожидать, 3-м сентября 1939 года [218]. Смешение метафор, нагромождение деталей, риторика ради риторики – и все лишь для того, чтобы сказать, что шарик улетел, и в очередной раз (разумеется, не последний) проиллюстрировать занятные чудачества истории.
Неужели мы действительно ощущали себя в гуще жизни? И жили в предчувствии великолепных приключений? «Бог здесь, в малиновых коврах весенней суллы и в рыжих рощах, в стручках сладчайших цератоний, которыми питался Святой Апостол Иоанн на этом острове прекрасном. Руками Господа ухожены долины; Его дыханье гонит прочь дожди; и глас Его направил Павла с благою вестью на нашу Мальту, когда его корабль потерпел крушенье». А Маратт писал:
С Британией мы вместе будем гнать
Врагов от берега отчизны милой.
Благой Господь поможет зло карать
И после Сам зажжет лампаду мира…
«Благой Господь» – теперь эта фраза вызывает улыбку. Шекспир. Шекспир и Т. С. Элиот погубили нас всех. Вот, к примеру, какую «пародию» на поэму Элиота написал Днубиетна в Пепельную Среду сорок второго года:
Ибо я,
Ибо я не надеюсь,
Ибо я не надеюсь остаться в живых[219],
Избежать беззаконья Дворца или с воздуха смерти.
Ибо я могу
Лишь одно,
И я продолжаю…
Больше всего у Элиота нам, пожалуй, нравились «Полые люди». И мы любили пользоваться елизаветинскими фразами даже в разговоре. У меня есть описание одного эпизода, прощальной пирушки, которую мы устроили накануне свадьбы Маратта в 1939 году. Все в сильном подпитии, мы спорили о политике в кафе на Королевской дороге, scusi [220] – тогда она называлась Страда-Реале. Итальянцы еще не начали бомбить остров. Днубиетна назвал нашу Конституцию «лицемерным прикрытием рабовладельческого государства». Маратт ему возразил. Днубиетна вскочил на стол, опрокинув стаканы, спихнув бутылку на пол, и закричал: «Изыди, caitiff! [221]» Эта фраза стала нашим излюбленным выражением: «изыди». Запись в дневнике, скорее всего, была сделана на следующее утро: даже мучаясь от головной боли и сухости во рту, Фаусто I тем не менее мог рассуждать о красивых девушках, джазовом оркестре, галантной беседе. Предвоенные годы, годы учебы в университете, как видно, и впрямь были счастливым временем, а их беседы – действительно «хороши». Они спорили обо всем на свете, а света – во всяком случае солнечного – тогда на Мальте было в избытке.