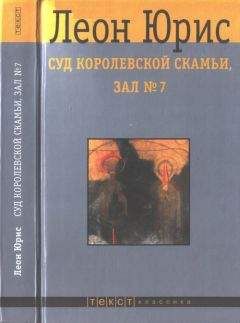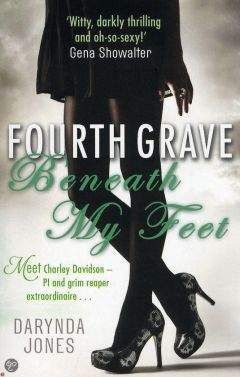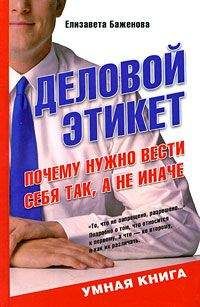— Адам! — закричала_вбежавшая Анджела, заслоняя Терри своим телом.
— О Господи! — горестно воскликнул Адам, опускаясь на колени. — Прости меня, Терри! Прости меня…
Напряжение в зале суда возрастало с самого утра: Хайсмит и Баннистер долго препирались из-за процедурных подробностей.
Накануне вечером из Оксфорда приехал Марк Тесслар. Он поужинал с Сюзанной Пармантье и Марией Висковой, после чего Эйб, Шоукросс, Бен и Ванесса присоединились к ним за чашкой кофе.
— Я знаю, что собирается делать Хайсмит, — сказал Тесслар. — Им не удастся меня сбить, когда речь пойдет о той ночи десятого ноября.
— Я не знаю, как выразить то, что я чувствую, — сказал Эйб. — По-моему, вы самый благородный и мужественный человек из всех, кого я встречал за свою жизнь.
— Мужественный? Нет. Просто никакая боль мне уже не страшна, — ответил Марк Тесслар.
В первой половине заседания Честер Дикс подверг Сюзанну Пармантье довольно мягкому перекрестному допросу, который продолжался до перерыва на обед.
В перерыве Шоукросс, Кейди, его сын, дочь и леди Сара Видман основательно выпили в таверне «Три бочки». Когда они принялись за пирог с почками, Джозефсон отправился в отель за Тессларом.
После перерыва Адам Кельно вошел в зал заседаний первым. Глаза у него были остекленевшие от успокоительных таблеток. Пока зал заполнялся и переполнялся, он то и дело бросал умоляющие взгляды на жену и Терри, занявших места в первом ряду.
— Прошу тишины!
Энтони Гилрей уселся на свое место и, подождав, пока все отвесят ему поклон, кивнул Томасу Баннистеру. В этот момент в зал вбежал Джозефсон, подбежал к столу Джейкоба Александера и стал что-то возбужденно шептать ему на ухо. Александер побагровел, быстро написал что-то на клочке бумаги и передал его Томасу Баннистеру. Баннистер в полной растерянности рухнул на стул. Брендон О’Коннер перегнулся через свой стол, схватил записку, прочел ее и неуверенно встал.
— Милорд, нашим следующим свидетелем должен был быть доктор Марк Тесслар. Нам только что сообщили, что доктор Тесслар умер от сердечного приступа на улице перед своим отелем. Могу я просить милорда судью объявить перерыв до завтра?
— Тесслар… умер?
— Да, милорд.
Квартира на Колчестер-Мьюз была погружена в полумрак, когда Ванесса открыла дверь леди Саре. Эйб поднял голову и невидящими глазами посмотрел на нее. Лица у всех были заплаканные.
— Эйб, не надо винить в этом себя, — сказала леди Сара. — Он же давно был очень болен.
— Дело не только в нем, — сказала Ванесса. — Сегодня после обеда посольство разыскало Бена и Йосси и передало им приказ немедленно вернуться в Израиль и явиться по месту службы. Это мобилизация.
— О Господи! — сказала леди Сара, подойдя к Эйбу и гладя его по голове. — Эйб, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, но есть решения, которые человек обязан принять. Все уже собрались у меня.
Он кивнул в знак того, что понял, встал и надел пиджак.
Все собрались у леди Сары, чтобы разделить общее горе. Там были Томас Баннистер, и Брендон О’Коннер, и Джейкоб Александер. Там были Лоррейн и Дэвид Шоукроссы, Джозефсон и Шейла Лэм. Там были Джефри, Пэм Додд и Сесил Додд. Был там и Оливер Лайтхол.
И были там еще четверо. Питер Ван-Дамм со своей семьей — бывший Менно Донкер.
Эйб обнял Ван-Дамма, и они некоторое время стояли обнявшись и гладя друг друга по спине.
— Я прилетел из Парижа сразу, как только услышал про это, — сказал Питер. — Я должен завтра дать показания.
Эйб вышел на середину комнаты и повернулся лицом к собравшимся.
— С тех пор, как начался этот процесс, — произнес он охрипшим голосом, — я стал главным зазывалой на этом карнавале ужасов. Я бередил старые раны, возрождал забытые кошмары и брал в свои руки судьбы людей, которых надо бы оставить в покое. Я говорил себе, что они останутся безымянными. Но вот перед нами человек, который известен на весь мир и которого мир не может не узнать. Вы знаете, когда я ослеп на один глаз, случилась странная вещь: незнакомые люди в барах стали меня задирать. Когда люди видят калеку, всплывают на поверхность все их дурные инстинкты. Человек становится чем-то вроде раненого животного в пустыне — это только вопрос времени, когда его сожрут шакалы и гиены.
— Можно я вас прерву? — сказал Баннистер. — Мы, конечно, понимаем, какие проблемы возникают в связи с личной тайной мистера Ван-Дамма. К счастью, британский закон предусматривает подобные редкие ситуации. Для таких случаев у нас существует процедура, которая называется заседанием «ин камера». При этом показания остаются в тайне. Мы попросим судью очистить зал заседаний от зрителей.
— А кто там останется?
— Судья, его помощник, присяжные и законные представители обеих сторон.
— И вы в самом деле думаете, что все останется в тайне? Я так не думаю. Питер, вы знаете, какие жестокие шуточки будут отпускать по этому поводу. Вы действительно считаете, что после этого сможете давать концерт перед тремя тысячами слушателей, которые только и будут разглядывать, что у вас там между ног? Так вот, если есть что-то, за что я не хочу брать на себя ответственность, — так это за то, чтобы лишить мир музыки Питера Ван-Дамма.
— Ваша беда, Кейди, в том, — сердито сказал Александер, — что вы одержимы идеей мученичества. По-моему, вам приятно думать, что вы предстанете этаким Христом и будете удостоены бессмертия после того, как вас линчуют.
— Вы, по-моему, сильно устали, — отозвался Эйб. — Вы явно переработали.
— Господа, — вмешался Баннистер, — мы просто не можем позволить себе ссориться в такой момент.
— Правильно, — поддержал его Шоукросс.
— Мистер Кейди, — продолжал Баннистер, — вы заслужили уважение и восхищение в глазах всех нас. Вы логично мыслите и должны понимать, какие последствия нам грозят, если мы не позволим мистеру Ван-Дамму дать показания. Представьте себе на минуту, что суд приговорит вас к выплате Адаму Кельно большого возмещения. На вас ляжет ответственность за разорение вашего ближайшего друга Дэвида Шоукросса и за бесславное окончание его выдающейся издательской деятельности. Но важно не только то, что будет с вами или с Шоукроссом. Гораздо важнее то, как победа Кельно будет выглядеть в глазах всего мира. Это станет пощечиной каждому еврею, всем тем оставшимся в живых мужественным людям, мужчинам и женщинам, которые выступили на этом процессе, и, уж конечно, это будет тягчайшим оскорблением памяти всех, кого убил Гитлер. И за это ответственность тоже ляжет на вас.
— Есть еще одно обстоятельство, — сказал Оливер Лайтхол. — Как насчет будущей медицинской этики? Будет просто страшно, если когда-нибудь врачи смогут ссылаться на этот процесс, чтобы оправдать жестокое обращение с больными.
— Так что вы видите, — сказал Баннистер, — ваша позиция, конечно, очень благородна, но влечет за собой очень серьезную ответственность.
Эйб обвел взглядом их всех — маленькую усталую горсточку идеалистов.
— Господа присяжные, — произнес он голосом, в котором звучала бесконечная печаль, — я бы хотел всего лишь процитировать королевского советника Томаса Баннистера. Он сказал, что никто даже в кошмарном сне не мог бы предвидеть того, что произошло в гитлеровской Германии. И еще он сказал, что, если бы цивилизованный мир знал о намерениях Гитлера, то его бы остановили. Так вот, сейчас тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год, и арабы каждый день клянутся довести до конца то, что начал Гитлер. Конечно, мир не допустит продолжения Холокоста. Есть благо и есть зло. Благо — это право людей на жизнь. Зло — это стремление их уничтожить. В таком виде все очень просто. Но по законам блага живет разве что царствие небесное. А царства земные живут нефтью. И вот смотрите. Мир безусловно должен был бы прийти в ужас при виде того, что происходит в Биафре[5]. Там пахнет настоящим геноцидом. И конечно, после событий в гитлеровской Германии весь мир должен был бы вмешаться и положить конец геноциду в Биафре. Однако на самом деле этого не происходит, потому что британские инвестиции в Нигерии вступают в конфликт с французскими интересами в Биафре. В конце концов, господа присяжные, там ведь всего-навсего одни чернокожие убивают других чернокожих.
Нам хотелось бы думать, — продолжал он, — что Томас Баннистер был прав, говоря, что больше людей, и в том числе немцев, должны были пойти на риск наказания и смерти, но отказаться выполнять приказы. Нам хотелось бы думать, что немцы должны были протестовать, и мы спрашиваем, почему немцы не протестовали. И вот сегодня молодежь выходит на улицы и протестует против Биафры, и против Вьетнама, и в принципе против убийства своего ближнего на войне. А мы говорим им: «Почему вы протестуете? Почему вы не хотите отправиться туда, чтобы убивать, как убивали ваши отцы?»