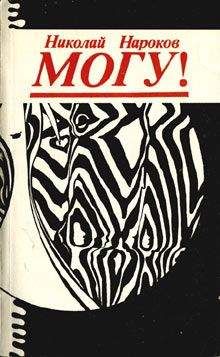Она оперлась левой рукой о пружину дивана, чтобы хоть немного поддержать себя: если бы не оперлась, то безвольно и бессильно упала бы на подушки. Табурин глянул на нее, и ему стало ее жалко. Постоянная неприязнь к ней замолчала, и он сейчас видел только безмерно виноватую и безмерно несчастную женщину.
— Зачем вы… Зачем вы рассказали мне это? Этот фильм? Чего вы хотите от меня? — беззвучно спросила Софья Андреевна, не поднимая головы.
— Разве вы не знаете, чего я хочу?
— Но ведь… Но ведь…
— Да, конечно!
— И я… Что же я теперь должна делать?
— Вы сами это знаете. Если же не знаете, то никто вам этого не скажет.
— Но ведь вы-то знаете? Знаете, что я должна делать?
— Знаю ли? Кажется, знаю.
Она подняла глаза и изо всех сил всмотрелась в него.
— Вы выслушали мою выдумку о фильме без отрицания и без спора! — продолжал Табурин. — Вы не возражали и не защищались. Это было признанием. Да, вы во всем признались. Это хорошо.
— Хорошо? Да, хорошо!
— Вы, может быть, боитесь конца? Для него у вас нет сил? Силы могут быть во всем. Все может быть силой. Даже отчаянье — сила. Даже потеря сил — сила.
Табурину хотелось вскочить с места и начать быстро ходить, но он сдерживал себя и сидел неподвижно, то взглядывая на Софью Андреевну, то отворачиваясь от нее. «Что сейчас с ней?..» — пытался угадать он. Он сам не знал, как должна была встретить Софья Андреевна его рассказ о фильме, и, кажется, ждал чего-то более несомненного: то ли рыданий и воплей, то ли мольбы и покаяния. Но видел: то, как встретила она этот рассказ, было сильнее мольбы и покаянья. И он всматривался: так ли оно? сильнее ли? И чувствовал: конец теперь будет. Не потому, что Софья Андреевна станет теперь бояться того, что он выдаст ее, а потому, что над ней повиснет новое: есть человек, который «все знает». И это будет невыносимо, с этим жить нельзя. Есть человек, который все знает! И каждую минуту на нее будут смотреть глаза этого человека, и каждую минуту он будет ждать. Чего ждать?
— Уходите… — слабо и тихо попросила она. — Вы все уже сказали? Уходите!..
— Да, я сейчас уйду! — все еще о чем-то думая, поднялся Табурин. — Я уйду, но…
Он хотел сказать твердо и строго, но вышло иначе: он попросил.
— Но подумайте и о Викторе… Вы будете думать о нем? Да? Еще одна смерть? Еще одна смерть?
Софья Андреевна ничего не ответила и даже не пошевелилась, а сидела все так же неподвижно, не поднимая глаз. Табурин, уже выходя из дверей, обернулся и посмотрел на нее. И сердце у него сжалось: такая скорбная, замученная, уже неживая сидела она.
В этот вечер Миша вернулся домой часов в 10. И когда он подходил к дому, он незаметно для себя начал замедлять шаги: так сильно не хотелось ему возвращаться и опять быть в тех стенах, которые так давили его все последние недели. Особенно же сильно, до страха и отвращения сильно не хотел он видеть Софью Андреевну. «Ведь и сегодня опять будет что-нибудь, как вчера!»
Он не сразу отворил дверь и не сразу вошел, а сначала постоял минуты две перед входной дверью, как бы собираясь с силами. А когда вошел в комнату, то первым делом осмотрелся: тут ли Софья Андреевна? Где она? Но в гостиной ее не было. И он тихо, боясь, чтобы она не услышала его шагов, осторожно прошел к себе.
Он весь день провел у Потоковых и знал, что Табурин днем виделся с Софьей Андреевной и говорил с нею. О чем? Табурин ничего не сказал ему, но по отдельным словам, которые Табурин по своей пылкости не мог сдержать, он знал, что разговор был очень важный, «колоссально решающий». Миша не знал, что именно решал этот разговор, но страх, который так крепко держал его все последние дни, охватил его еще сильнее, потому что он чувствовал: все подошло к концу и не сегодня, так завтра будет конец. Какой конец?
Он очень осторожно, по-воровски, стараясь ничем не стукнуть, сел в кресло и стал прислушиваться к тишине. «А где она сейчас? Дома?» — подумал он. Захотел пойти в другие комнаты, чтобы узнать, дома ли Софья Андреевна, но побоялся, что увидит или узнает что-то: в тех комнатах, и особенно в ее комнате, «сейчас что-то есть»! И он оставался в кресле, стараясь даже не шевелиться.
Софья Андреевна была дома. Она сидела в своей комнате. Дверь за собой она заперла, занавески на окнах опустила. И когда опускала их, то тщательно осмотрела: не осталось где-нибудь щелочки? Она словно бы боялась, что кто-то подойдет и подсмотрит. Горела только небольшая лампа на столе, а вся комната была в полутьме, и особенно темными были углы. И казалось, будто потолок опустился и тяжело висит в воздухе, не опираясь на стены.
Она сидела за столом и писала. Но писала странно: напишет строчку или даже полстрочки, положит перо, откинется в кресле и начнет сидеть неподвижно, смотря невидящими глазами. Может быть, о чем-то думает, но, вернее, даже не думает, а только сидит не то в забытьи, не то в полусознании. О своем письме она даже забывала и только время от времени вспоминала о нем, брала перо и опять писала.
Вероятно, она начала писать давно и писала уже долго, но написала мало. Да и то, что она написала, было разбросанное. На одной странице было только несколько неоконченных строчек сверху, другая была наполовину зачеркнута. Строки были неровные, оборванные, они то падали вниз, то лезли кверху. Уже несколько листков написала она, но если бы собрать все написанное в одно место, то вряд ли вышло бы больше двух страниц.
Она писала по-русски, но иногда, кажется, забывала об этом и начинала писать по-французски. Но написанного не исправляла и не зачеркивала, а так и оставляла. Даже несколько английских фраз было в ее письме.
Потом она опомнилась и начала писать внимательнее, сосредоточенно, не отрываясь. Писала быстро и стала очень торопиться. Пропуская слова, комкала их и не останавливалась, не ставила запятых и даже точек. Она хотела как можно скорее закончить.
Часы в столовой пробили уже 12, когда она кончила писать. Собрала листы, но не пронумеровала их, а только подписала внизу, стараясь, чтобы подпись была четкой и ясной. Посидела несколько минут, встала и с неопределенным видом постояла у стола. Потом перешла в гостиную и стала там ходить.
Миша услышал ее шаги и сразу встревожился. Выпрямился и насторожился. Сердце опять неровно забилось, и дыхание стало опять прерываться. Он хорошо знал эти шаги: быстрые, нервные, похожие не на шаги, а на мелкий, порывистый бег. Он прислушивался и все время ждал, не зная, чего он ждет. Но не сомневался: сейчас что-то будет, потому что оно должно быть, не может не быть.
Так прошло минут 15. Он слышал, что Софья Андреевна перестала ходить и приостановилась. Это тоже испугало его, как перед тем испугало, что она ходит. Почему она остановилась? Она постояла недолго, а потом вышла из гостиной, но пошла не в столовую и не к себе, а по коридорчику, который вел к Мишиной комнате. Подошла к двери. Миша затаил дыхание.
— Ты еще не спишь? — негромко спросила она.
— Нет!
Она отворила дверь и вошла. Вошла и, не делая ни шага дальше, остановилась, смотря на Мишу. Он сидел в кресле, но не встал, а только повернулся к ней и тоже стал смотреть. «Какая она старая!» — вдруг заметил он, смотря на ее лицо.
Так прошла минута.
Потом Софья Андреевна словно бы качнулась и сделала шаг или два вперед: неуверенно и через силу. А потом, как будто ее кто-то толкнул сзади, сделала еще два неровных шага. И, сделав их, быстро, не сдерживаясь, близко подошла к Мише. Не говоря ни слова, опустилась на пол и легла головой Мише на колени. «Что? Что это? Зачем?» — вздрогнул он.
Софья Андреевна что-то сказала, но так невнятно, что Миша не разобрал слов. Хотел переспросить, но не знал, как это сделать и какими словами можно спросить.
— Прости… Прости меня!
— Что… прости? — испуганно не понял он.
— Все прости!.. Я… Но ты прости, прости! Не можешь?
Она подняла голову с колен и снизу посмотрела Мише в глаза. И он тоже посмотрел ей в глаза. И от того, что он увидел в них, сердце заныло, в них было отчаянье.
— Прости… Не можешь? — заметалась Софья Андреевна, хватая его за локти и приподнимаясь на коленях. — Не можешь? Но ты прости… Все прости! За все! И за Пагу тоже прости! Да, да! За Пагу — тоже! Я… Пагу…
Миша не знал, что с нею сейчас. Не знал и того, что сейчас с ним. Был страх, была боль, была потерянность. Он не мог найти ни одного слова, сидел молча и только смотрел на нее. А она хватала его руки и сильно сжимала их, не отрываясь от его глаз.
— Тебе… сейчас… очень больно? — насилу выговорил Миша.
— Больно? Да, да! Невыносимо! Но ты не спрашивай, молчи! Ты ни о чем не спрашивай, потому что я ничего не скажу и… и не надо говорить! Но ты прости! Можешь простить?
— Я… Я…
— Нет, нет! Молчи! Ты душой прости, сердцем! А словами не надо! Только душой!