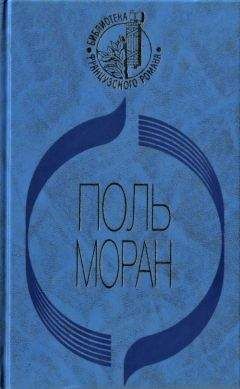— Но кто вовлек вас во все это?
— Я имела дело с порядочными людьми и с негодяями, и первые были под пятой вторых. Да к тому же здесь, в Англии, так странно… в Париже всему есть предел, какие-то рамки. В Лондоне все размыто.
— А я, разве я здесь не для того, чтобы помочь вам? — проговорил я, подойдя к ней ближе.
Но она уже не слушала, вконец измученная усилием, которое ей пришлось сделать, чтобы мыслить и связно выражать свои мысли.
— Уедем со мной, Дельфина, я не хочу оставлять тебя. Завтра я возвращаюсь в Париж. Хочешь, я куплю тебе билет?
— Я не смогу.
— Ты только захоти.
— Я не могу больше хотеть.
Веки ее покраснели, нос раздулся, она чихнула.
— Оставьте меня. Я не нуждаюсь ни в ваших советах, ни в ваших упреках. Этого я не позволяю никому. Впрочем, все, что вы говорите, не лишено эгоизма и злобы. Лучше вам уйти. Каждый день в одно и то же время меня бьет лихорадка. И нечего разглядывать флаконы, вас это не касается. Вы что, пришли шпионить за мной? И не надейтесь выведать что-нибудь у моих слуг, ни один не пожелал остаться у меня… — Она прислушивается. — Слышите, скребутся? Это мыши, прямо беда… — И, видя недоверие в моем взгляде, продолжает: — Я больна, не правда ли? Доставляет ли вам удовольствие унижать меня теперь, когда я сама от себя отреклась, когда у меня крашеные волосы, траур вокруг ногтей и вид отщепенки? Знаю, что я скатилась. Вы наблюдали за процессом, не позволяя себе вмешаться; теперь уже я прошу вас ни во что не вмешиваться. Или вы недостаточно провоцировали меня в прошлом? Теперь я подчиняюсь законам непристойного поведения и нахожу в том определенное удовольствие. Ваш высокомерный вид мне несносен. Подите прочь.
— Дельфина, девочка моя, успокойтесь. Уверяю вас, я не такой безжалостный, как вы думаете. Поищем выход вместе.
Она обмякла, прижалась лбом к моей руке; я чувствовал, как невыносимо ее страдание. Хрустнули ее пальцы, она спрятала свои ногти. И потеряла сознание.
Я уложил ее. Когда же она очнулась, то на все мои попытки найти ей оправдание, внушить веру в себя отвечала:
— Все это приключилось со мной от гордости.
Я ждал этой жалобы, которая у всех женщин наготове и которой они обозначают свою униженность.
Дельфина назначила мне свидание в Ридженс-парке. До этого я ходил регистрировать свой багаж, так как поезд в Париж отправлялся через час. Тренировки новобранцев за пять лет здорово повредили парку, но теперь он оживает. Мимо меня проходит солдат в форме мирного времени, весь сверкая, как перец в салате. Летит вниз, стукаясь о ветки, орех, выпущенный невидимой белкой, и раскалывается об землю.
Не скажу, что вчерашний визит на Эбьюри-стрит взволновал меня. Скорее, просто задел. Страдание Дельфины не находило выхода; накрепко прикованная к своему несчастью, она была и во власти обескураживающей вульгарности. Выражалась она пошло, а обморок вообще все испортил. Но стоило мне оказаться одному, как картина прошлого властно предстала моему взору с наложенной на нее сверху, как калька, и время от времени гримасничающей картинкой вчерашнего дня. Это отдалось во мне болью. Не то чтоб я так уж дорожил благополучием другого, но было мучительно видеть, как кренится натура, которую до того не могли поколебать ни радость, ни горе. Я уважал ее, не восприимчивую к лучшему, но и не падкую на заразу. Ее горделивая цельность часто казалась мне невыносимой, но не менее тягостным оказался для меня вид грубого пленения всего ее существа каким-то бесцельным роком.
Меня охватило сострадание, я думал лишь о том, как можно помочь ей. Всю ночь я был снедаем беспокойством И страстно желал спасти ее. Растроганный, я чуть было не отправился к ней посреди ночи…
Проходит час, Дельфины нет как нет. Лондон не отдает того, что стало его добычей. Он как сеть: стоит только в нее попасть, и ты пропал. В его бесчисленных домах есть и другие жертвы: горе и удовольствие вовсе не держат их, но им уже не вырваться. Не пережевывая их челюстями своих набережных, Лондон, этот морской хищник, просто заглатывает их, как и все остальное, что попадается ему, разлегшемуся там, где заканчивают свой путь корабли.
Она не придет. В зоопарке по соседству львиный рык потрясает пещеры из армированного бетона. Крики попугаев ара разрывают ткань вечера. Мое сердце полно сострадания и жалости.
Окно выходит во двор, до рассвета рукой подать. Над двором повисла видавшая виды черепица небесного свода на болтах-звездах с кислотными подтеками на востоке. Таким должно быть утро казни. Двор — крик о помощи задыхающегося. Он слишком узок, чтоб тишина могла пребывать в нем в лежачем положении, она стоит колом, как в трубе.
Из подвального помещения раздаются глухие удары — это помощники булочника бросают друг другу тяжелые шматы теста.
Жить здесь мне невмоготу, я задыхаюсь; я еще мог бы спать, если б не сны и не давящая усталость при пробуждении; жить в окружении друзей непереносимо, еще более непереносимо жить вдали от них. И все-таки мне это удается; а вот убить время не получается никак, только ранить, как ни грызи ногти, не выщипывай волоски.
Уехать бы куда глаза глядят, прихватив с собой лишь чемодан да чековую книжку в железной коробке на шее. Мой чемодан: его гладкие бока что щеки — и какие только ветра его не обдували, и кто только до него не дотрагивался, а уж сколько на нем разных наклеек отелей и вокзалов, сколько отметок разноцветными мелками!
Задняя его стенка изнутри вся в разводах от пота и морской воды, а в одном месте, там, где разлился одеколон, даже порыжела. На беду, я не в силах бежать из этого города, что означало бы бежать от самого себя. Вот и остается гулять по лужайкам с одомашненной травой Апер-Тотинга, кататься в пригородных омнибусах, бродить по паркам, таким же дурацким, как цветочные горшки на балконах, да дышать запахом свежих овощей за Оперой, ставшим неотделимым от творения Бичема[89]…
За спиной раздается веселый смех прохожих. Найдется ли среди них хоть один, кто согласился бы пожертвовать своим временем и последовать за тем знаком, разгадка которого, кажется, предписана мне сегодняшним утром, кто тоже хотел бы уехать или, по крайней мере, посожалеть вместе со мной о том, что отъезд невозможен? Или утешить меня, участника анонимного фарса под названием «сотворение мира»? Может, хоть газетные объявления смогут мне помочь?
Я оборачиваюсь: женщина в оранжевой тунике, подпоясанной золотой веревкой; обнаженные, загорелые, очень длинные руки. Браслет с татуировкой. Это Аврора. Я узнал ее, потому как однажды весной наблюдал за ее пляской под дождем в Багатели. А кроме того, видел на обложках «Татлер»: «Аврора кормит своих пум», «Мы ходим неправильно, а вот как ходит Аврора». На указательном пальце у нее, увы, черный бриллиант, явно приобретенный в Берлингтон-Эркейд.
Несмотря на странности, она очень привлекательна. Говорит легко и просто, как человек, привыкший беречь дыхание; скупа на слова. Когда она окружена мужчинами, бросается в глаза, что она не уступает им в росте, такая же узкобедрая, с такой же короткой стрижкой и маленькой головкой, словом, ей не приходится смотреть на них снизу вверх.
Как сказала бы она сама: «Женщины-одалиски на слишком коротких ногах. Когда такая рядом с мужчиной, ее глаза находятся на уровне его губ, и он заглядывает ей за корсаж. Ну о чем они могут говорить?»
У Авроры корсажа нет, и она лишает нас удовольствий связанных с ним, зато сколькими другими одаривает!
На сегодняшнем рауте несколько светских львиц. Рядом с ними Аврора теряется; ей не по душе их взгляды, она старается не показывать своих ног в золотых сандалиях и поправляет вырез на груди.
А женщины, наоборот, доверчиво льнут к ней, кладут свои хорошенькие размалеванные головки, похожие на леденцы, ей на плечо и рассказывают всякие прогорклые истории про генералов, сценаристов, слуг, самоубийц, поставщиков и торговцев кокаином.
Роже, усевшись на фортепиано задом, пытается исполнить мелодию из «Парсифаля».
Меня клонит ко сну. Усталость такая, что просто не двигаться и говорить, как ты устал, — уже отдых. Разговоры все какие-то вязкие, путаные. Иду в столовую. На блюдах осталось несколько заветренных бутербродов с загнутыми, как у плохо наклеенных марок, углами; повсюду пепел от сигар и пробки; бутылки полупусты; а присутствующие уже выглядят небритыми. Руки липкие, голова трещит.
Вновь подхожу к окну. Улица теперь холодного стального оттенка, небо поголубело. Какая-то женщина что-то шьет, видно, пытаясь привести в божеский вид потрепанную ночь.
Чей-то острый подбородок тычется мне в плечо. Рядом опускается и вздымается грудь, широко вбирающая в себя воздух нового дня, наконец долетевший до нас со свежим запахом листьев.