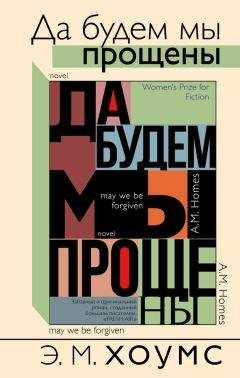Кухня увешана расписаниями домашних заданий интенсивной программы, которую мы начали для обоих детей. Рикардо теперь еще в команде пловцов и в футбольном клубе. Я купил на дворовой распродаже подержанный стол для пинг-понга, установил в гостиной, и мы играем навылет и двое против одного. Быстрота и необходимость координации руки и глаза хорошо влияют на остроту ума.
В адвокатской конторе эти печально известные коробки держат в хранилище. Поскольку материалы не имеют официального статуса и никак нигде не зарегистрированы публично, хранители очень следят, чтобы не выпустить их из-под замка. Каждый день, когда мы с ними работаем, огромное хранилище открывают, его служитель снимает коробки с полки – ставит их и наш рабочий компьютер вместе с распечатками на металлическую тележку, и я ее везу в свой офис вместе с запертым ящиком для папок.
Чинь Лан сидит у меня в офисе и читает вслух черновики, я тем временем их размечаю. Произношение у нее неправильное, это заставляет меня внимательно слушать и тщательно редактировать. Она записывает мои поправки, распечатывает страницы, и мы повторяем тот же цикл. Мне нравится звук ее голоса: приходится потрудиться, чтобы понять смысл. Чинь Лан занимается на курсах редакторов, и ей это очень нравится.
– Эти пометки – почти китайское письмо. Почти.
У нас тринадцать рассказов и двадцать восемь фрагментов разной длины – от трехсот пятидесяти слов до бессвязицы в восемнадцать тысяч слов, которая мне кажется блестящим бредом, порождением если не психоза, то явно каких-то веществ. Темы варьируются от пасторали (как нюхать попку дыни, чтобы определить ее спелость, и почти любовная страсть в описании грозы, несущейся по полям в летнюю ночь) до тщательного исследования ценности человеческой жизни, если у человека есть своя жизнь, отдельная от той, которую он ведет со своей семьей, частная жизнь, о которой никто больше не знает, «где он может быть собой, не опасаясь ничьего разочарования или отвращения».
Чинь Лан каждый день обедает с родными в магазине. С самого утра ее ждут, чтобы она пришла и заложила товар на полки, куда они не достают – она у них вместо стремянки. Не желая мешать, я перестаю ходить в магазин и начинаю обедать в одном заведении за два квартала, но потом чувствую себя предателем и возвращаюсь в магазин.
– У нас хорошее чистое место, у нас литер «А» от департамента здоровья, – говорит мать Чинь Лан. – Другое место кушаешь – паразит в кишках будет.
– Я не хотел мешать вашему семейному общению.
– Ты есть член нашей семьи, – говорит она, усаживая меня за стойку, где вся семья уже сидит на бочках из-под огурцов и ест еду, принесенную из дома в ярких пластиковых контейнерах. – Свинья лета?
Она палочками для еды поднимает небольшой мясной шарик.
– У меня сестра работает в столовой, приносит домой излишки, – объясняет Чинь Лан.
Я съедаю «свинью лета» и лишь тогда понимаю, что это была свиная котлета.
– Хороший мальчик. Ты черепаха кушаешь?
– Нет, – отвечаю я.
– Ты не пробовал, – говорит женщина. – Очень хорошо, как крепкий курица. Конджи?
– Никогда не пробовал.
– Ты будешь полюбить. Рис, как сливки из пшеница.
Я киваю.
– Креветка?
– Да, конечно.
– Бок чой?
– Всегда, – отвечаю я для поддержания разговора.
– У моей сестры ресторан в Лос-Анджелес, у двоюродной сестры – в округ Уэстчестер. Мы у вас называемся пищевики.
Она подкладывает мне риса на тарелку.
После обеда мать сует мне еще один батончик «Херши» – эта традиция выработалась у нас почти сразу.
– Шоколад поднимает настроение, – говорит она.
Возвращаясь в контору, я захожу в суперстор за офисными принадлежностями. Хожу по рядам, любуясь изобилием. Нахожу флуоресцентные наклейки, которыми можно будет обозначать, как используются у Никсона различные языковые средства и интонации. Отметки должны быть содержательными, но не слишком часто повторяющимися.
Сжимая в руке пакет с приобретениями, как большой леденец для взрослых, я вхожу в лифт и нажимаю «16».
– Заработались? – спрашивает человек сзади. Он стоит у меня за левым плечом; чтобы его увидеть, мне бы пришлось развернуться.
– А то, – отвечаю я, пытаясь повернуться к нему. Вижу только край бейсбольной кепочки, синюю ветровку, темные штаны и туфли. Я бы сказал, неопределенного вида мужчина лет от пятидесяти до семидесяти, белый, ничем не примечательный.
– Я буду краток, – говорит он, не меняя тона. Остальные пассажиры лифта то ли не слышат его, то ли не слушают. – Ты совсем ничего не понимаешь – как мальчишка, офонаревший от любви. Все это гораздо глубже, чем ты можешь себе представить. Во-первых, Хотинер держал все под контролем. Во-вторых, пусть даже до дела и не дошло, но между Диком и Ребозо любовь была очень горячая. В-третьих, все давно знают, что утром в день убийства Никсон был в Далласе, и с ним Говард Хант и Фрэнк Стерджис. Слишком какое-то удобное совпадение, что они же были взломщиками в Уотергейте – посмотри на этих жлобов, или агентов секретной службы, на травяном холме. А этот проклятый читательский билет Ферри оказался в бумажнике Освальда! – Он смеется, и одна пассажирка лифта оборачивается. – Они мотались на Кубу туда-обратно, играя за обе стороны – и за мафию. Проверь, кто там был – и бинго! – это была тройная игра. – Пауза. – А ты знаешь, что Джек Руби работал в сорок седьмом на Никсона под именем Джек Рубинштейн? Короче, мальчик мой: ни хрена у тебя нет, голый кукиш.
Я не могу удержаться от звука – чего-то среднего между возгласом и хмыканьем.
– Не над чем тут смеяться. Позволь мне высказаться совершенно ясно! – говорит он, и что-то знакомое слышится в его формулировках. – Это не кто-то конкретный, а группа этих «кого-то». Ни у кого руки чистыми не остались. Пешки, все мы пешки. Нет человека, которого нельзя было бы купить, и нет человека, которого нельзя было бы свалить. Это как ярмарка уродов. – Он на миг замолкает. – Дядя Бебе купил твоей маленькой Джулии дом в подарок на свадьбу. Как ты думаешь, она регистрировалась для этого у «Тиффани»? Я за такими вещами слежу, я фанат истории. В правительстве полно таких, как я, парней, которые думают, будто что-то знают, они умные, да только недостаточно умные, сукины сыны. Уотергейт – такой был внутренний инцидент, «эксцентрическая комедия ошибок», как назвал его Никсон, который раздули непропорционально – если посмотреть на все остальное. Как говорил сам Никсон: «Отковырнешь корку – а там чертова уйма всякого, и мы просто чувствуем, что дальше лезть просто не надо ни за что. Тут же и кубинцы эти, и Хант, и куча надувательства, к которому мы сами никакого отношения не имеем». – Незнакомец мой замолкает на секунду, потом начинает снова, и на этот раз передо мной совершенно необъяснимая имитация Ричарда Никсона: – Видишь ли, проблема в том, что это начисто, полностью вскрыло историю залива Свиней, и у президента такое чувство… в общих чертах, такое: не надо слишком сильно врать и говорить, будто совсем никак не причастен; скажи просто, что это была комедия ошибок, не вдавайся в детали, скажи: президент считает, что вся история залива Свиней вскроется снова.
Он останавливает, прокашливается.
– Так как тебе рассказы?
– Нравятся, – говорю я, забывая на миг, что никто об этих рассказах не знает.
– И тот, который с руганью?
Я киваю.
– Это про меня, – подмигивает он. Лифт открывается, мужчина выходит. – Делай как следует свое домашнее задание, и удачи тебе.
Я доезжаю до самого верха, спускаюсь снова в вестибюль и прошу охранника у входа показать мне запись видеонаблюдения из лифта. Этот человек стоит там, где камера не в фокусе, будто знает, куда именно встать. Виден только край его бейсбольной кепочки – даже нельзя сказать, что он обращается ко мне, только у меня лицо все более и более взволнованное, и я оглядываюсь, будто проверяю, слышит ли кто-нибудь то, что слышу я, и что это для них для всех значит.
Это какая-то проверка? Не хочу никого нервировать, но, с другой стороны, эту проверку мог затеять лишь тот, кто в курсе, и разумно будет о ней сообщить. Я спрашиваю Ванду, не может ли она зайти ко мне в кабинет. Она приходит и останавливается в дверях. Я ей рассказываю про этого человека, про его бейсболку и так далее.
– Он стоял за вами, – говорит она. – Он будто точно знал, кто вы, и говорил то, чего вы раньше не слышали.
– Да, – отвечаю я, взволнованный, что вот сейчас мы что-то определим.
– На записях видеонаблюдения ничего?
– Размытое пятно, – говорю я.
Ванда кивает.
– Он здесь уже много лет – то появляется, то исчезает, – говорит она, не очень впечатлившись всей историей.
– Да кто же он? Какой-то полоумный навязчивый гость?
– Вроде того, – отвечает она. – Были и другие, но их осталось маловато – поколение уходит.
Я все еще озабочен.