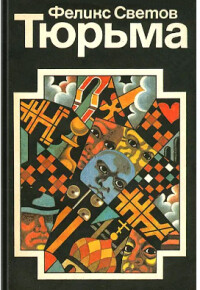Дрова догорели, в доме было тепло, душновато, бутылку мы допили, рассказ она кончила. «Будь великодушным, Вадинька ты знаешь, я не смогу тебе…»
Я был пьян и ничего не помнил. Н е х о т е л помнить… Не помню? Я и сегодня тем с ч а с т л и в !
К утру выстудило, забыли закрыть трубу. И мне так ясно вспоминается моя холодная ярость к тому, кто…
«Это был не я…» — сказал Гриша. Конечно, не я, а тот, кем я стал, позволив себе впустив в себя ярость, зависть, злобу, а потому и оказавшись здесь, переходя из камеры в камеру, продолжал распалять себя, отдавай ему, д р у г о м у собственный страх, ужас, и, всего лишь представив себе следующий логический шаг,— уже готовность спасти шкуру любой ценой, предать и продать; сводил счеты, представляя е г о в каждой из камер, и, находя е г о в себе в каждой с в о е й ситуации, из себя извлекая, выстраивая сюжет жалкой писательской мести… Кому? Что было бы со мной, когда б Господь не помог мне?..
«Жора — это я»,— говорю я себе и мне становится жарко под простыней. Пока я не выблюю его из себя, пока не спасу в себе, не покаюсь и перед ним за свою злобу и ненависть, пока не найду в себе силы его… полюбить.
3
Спать я уже не могу. Возникшее во сне ощущение, что я здесь надолго, становится все более прочным. Оно ни на чем не основано, логика отсутствует, но я уже привык доверять таким внезапным тюремным прозрениям. Они не обманывают.
Отсюда так легко не уйти, думаю я… Да не из больнички — из тюрьмы! Не будет суда, этапа, писем, звезд на черном небе над зоной… А что будет?
Хорошо бы задержаться в больничке, думаю я. Белые стены, чисто, ветерок в открытые окна… Коля Шмаков? В каждой камере свой Коля Шмаков, пора бы и на этот счет не дергаться. Почему я вчера не сказал ему всего, что о нем думал? Трусость или опыт? Но он что-то понял, замолчал. И я замолчал. Чужая камера, слишком мало знаю, чтоб открываться.
Пожалуй, - самый симпатичный здесь — Ося. Похрапывает рядом. Зубной техник, протезист… «Сапером был всю войну,— сказал мне Ося.— Думаешь, опасная профессия? Бывают переживания, не без того. Вот я и нашел потише, самую мирную — зубы вставлять. Покой, тишина, а я еще глухой. Но жить с каждым годом легче, веселей, кому нужны железные зубы, они хотят, чтоб открыл рот — солнце играло!.. Я и играю восьмой месяц из одной, камеры в другую...» Такого только ленивый не обидит, сказал бы Пахом. Она подороже — беззащитность, уже в который раз думаю я, некий раритет по нашей волчьей жизни, но может быть, в ней и сила, которой следует учиться? Едва ли научишься. Такая сила или есть, или ее нет…
— Не спишь, Вадим?
Коля. И он не опит. Мы с ним через проход.
— Проснулся,— говорю.
— Сколько ж ты ждешь суда?
— Второй месяц тянут. И обвинительного до сего нет.
— Как бы тебе не присохнуть. Как мне. Я уже полтора года. И год жду суда.
— А право у них есть? — спрашиваю, как когда-то, давным-давно, на сборке.
— За судом можно быть бесконечно. Пока не опухнешь. Я больше не могу, Вадим. Объявляю голодовку. До смерти.
— Не валяй дурака, Коля. Выкинут с больнички…
— Хрен с ними. Больше не м о г у ! Это ГБ. И тебя они тормознули. Кум с ними заодно. Они его крутят, а он…
— Ты где был, Коля, сюда — откуда?
— С особняка.
— Из двести восемнадцатой?
— А как ты знаешь?
— К нам пришел Арий. Месяц назад. Рассказывал.
— Вон как. Понятно, почему ты со мной так. Никому не верь, Вадим, здесь нельзя никому…
— Мне не надо,— говорю,— я себе пытаюсь поверить.
Я стоял у окна, глядел на двор сквозь зазоры между намордником и стенами. Все лежали, ждали прогулку… Дверь широко распахнулась и в камеру вломилась... толпа… Иначе не скажешь… Впереди — коренастый, плотный, с круглым ражим лицом, полковник. За ним — не по летам толстый, рыхлый, хлыщеватый, в кожаном пальто. А следом белые халаты, халаты… Никто из моих сокамерников не поднялся.
Полковник прошелся вокруг дубка, стуча каблуками, и круто остановился.
— У кого какие жалобы?.. Разберемся!.. Есть симулянты? На общак…— он махнул рукой.
Никто из лежавших не двинулся.
— Я начальник следственного изолятора,— сказал полковник.— Прокурор города по надзору — он ткнул пальцем, за спину, где стоял кожаное пальто.— Какая у кого беда?
Андрей Николаевич сбросил ноги-бревна со шконки, сел. Коля поднял голову. Зураб перевернулся на живот, Ося безмятежно читал книгу — ничего не слышит.
— А! Зашевелились?..— сказал полковник.— Живые!
Он хохотнул
— Какая статья? — обратился он к Андрею Николаевичу.
— Сто семьдесят третья,— сказал Андрей Николаевич.— У меня к гражданину прокурору… Я уже полгода болен, ходить не могу. Я ни в чем не виноват. Писал жалобы. Не отвечают, следователь не приезжает. Видите ноги? Зачем меня держать? Отпустите под подписку, я докажу, оклеветали…
Прокурор чиркнул в блокноте. От окна я хорошо вижу: поставил закорючку.
— А вы? — спросил полковник Колю.
— Объявляю голодовку,— сказал Коля,— смертную.
— Напугал,— сказал полковник.— Псих, что ли?
— Год за судом,— сказал Коля,— буду жаловаться в ООН.
— Главный врач! — крикнул полковник.— Чем он болен?
Серая мышка в белом, не по росту жеванном халате шагнула вперед.
— Высокое давление. Пытаемся сбить, но…
— Разберемся. Сколько он лежит?
— Месяц.
— Что?. Как… месяц?
— Видите ли…— начала мышка.
— Что у вас? — это вопрос Зурабу.
Лица Зураба я не вижу, только спину. Передо мной глаза полковника, они вздрагивают. Зураб готовится к психушке и уже демонстрировал мне свои ухмылки: толстые губы безобразно растягиваются, глаза рассредотачиваются, и без того страховидная рожа производит ужасающее впечатление.
— Ты… что? — сказал полковник.
— Голова…
— Вижу. Дальше что?
— Летит, отходит от тулова, поймай-ка.
— Была пятиминутка? — полковник повернулся к мышке.
— В следующий четверг,— сказала мышка.
— Наведем, порядок… А этот… читатель?
Я дернул Осю за ногу, он бросил книгу, оглянулся, вскочил со шконки, на голове прыгает седой хохолок.
— Статья, от чего лечат?
— Сто пятьдесят четвертая. Еще восемьдесят восьмая. Я ни в чем не… Желудок у меня…
— Же-е-лудок? Баржома не хватает?..— полковник махнул рукой.— На общак. Там враз вылечат. У нас не санаторий.
— Я хочу сказать, что мне…— начал Ося.
Полковник от него уже отвернулся.
— Ваша статья? — он смотрел на меня.
— Сто девяностая прим.
Полковник бегло глянул на прокурора.
— Как она… формулируется? — за все время прокурор первый раз открыл рот.
— Как?..— мне стало весело.— Распостранение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и…
— Да-да,— сказал прокурор,— конечно.
— Фамилия? — полковник шагнул, было, к двери.
— Полухин.
— Полухин?..— он круто повернулся.— Как же, как же!.. У вас вполне… приличный вид, Полухин, а ваша сестра… Была у меня, говорит, что вы…
— Как она? — перебил я.
— Кто?
— Сестра.
— Вам бы так, Полухин. С ней — все нормально.
— Благодарю,— сказал я.
Толпа вывалилась в коридор, дверь грохнула.
— Ну, шельма! — сказал Андрей Николаевич.— Видали заходы? «Кто жалуется — на общак!..» Н-да, разберутся…
— Это и есть Петерс?— спросил я.
— Собственной персоной. Редко кому такое счастье, чтоб самого… С тобой у него дружба, родственников знает?
— Зачем он приходил?
— Галочку поставить,— говорит Зураб.— Чтоб я на нем порепетировал. Осю — на общак. Большое дело сделал.
— Почему меня? — говорит Ося.— Только начали лечение?.. Первый раз я тут месяц отлежал, прошел курс, полегчало. А теперь пятый день, они и не начинали…
— Он тебе объяснил,— говорит Зураб,— не санаторий.